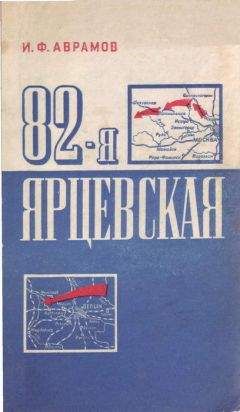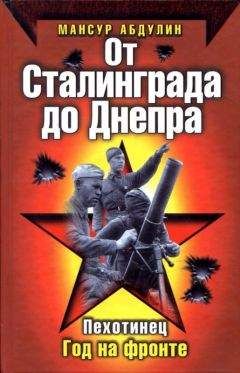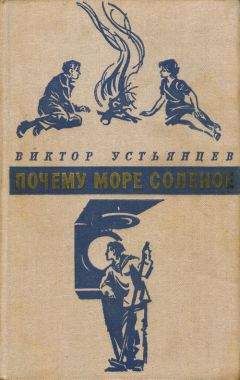И он рассказал, как однажды ночью, когда они с сестренкой прятались в блиндажике от немцев, на них наткнулся раненый танкист, как потом носил ему с товарищем бинты и кое-какую пищу.
Эта история заинтересовала соседа, он был патриотом своего города и захотел подробнее узнать, кто же из его земляков был этим танкистом.
— А ты точно знаешь, что он из Нижнего Тагила?
— Точно не знаю, но хорошо помню, что он несколько раз называл именно этот город. Я даже и не знал его фамилии, называл просто дядей Сашей. Но в сорок седьмом году во дворе, где когда-то был установлен немецкий миномет, откопали баночку с его документами. Оказывается, дядя Саша передал эти документы моему отцу, тот их закопал, а потом отца арестовали. Вот по этим документам я и узнал, что фамилия у дяди Саши — Коняхин. Баночку с документами сдали в военкомат, а фамилию я запомнил. Интересно бы узнать: живой он теперь или нет? Я писал в военкомат, но там о нем ничего не знают, он ведь не у них призывался.
— А знаешь, у меня жена в паспортном столе работает. Давай ей напишем. Если он действительно из Нижнего Тагила, то узнать будет проще простого.
Написали. Вскоре получили ответ. Коняхин в Нижнем Тагиле не был прописан, но в загсе сохранилась запись о регистрации брака жительницы Нижнего Тагила Пирумовой Анны Захаровны с Коняхиным Александром Романовичем. От родных Ани Пирумовой удалось узнать их адрес. Коняхины жили в Москве, на улице Металлургов.
Из санатория Павел Фомич выписался на два дня раньше срока и, не заезжая домой, отправился в Москву.
Павел узнал Александра Романовича сразу, еще из окна вагона. Коняхин стоял на перроне вокзала и пристально вглядывался в лица выходящих из вагона пассажиров. Внимательно посмотрел он и на Павла, но не узнал.
«Не удивительно, — подумал Павел. — Прошло почти двадцать лет, я тогда совсем мальчишкой был».
Он поставил у ног чемодан, немного постоял и тихо окликнул:
— Дядя Саша!
Коняхин круто обернулся, вгляделся в его лицо и радостно воскликнул:
— Паша!
Они долго тискали друг друга в объятиях. Их толкали чемоданами и узлами, но они оба ничего не замечали вокруг. На них тоже никто не обращал внимания: мало ли на вокзале бывает встреч?
2
Заведующий отделом земледелия Всесоюзного научно-исследовательского института сахарной промышленности Яков Петрович Подтыкан приехал в Алма-Ату по делам. Дел этих оказалось так много, что ни в первый, ни во второй день Яков Петрович не смог выбраться к Переплетову. С Иваном Митрофановичем они после войны так и не встречались, хотя переписывались регулярно. Совсем недавно Переплетов прислал Якову Петровичу свои записки в двух толстых тетрадях. Это были воспоминания о войне, о партизанских делах.
Записки Яков Петрович прочитал, но в них надо было кое-что уточнить, а главное — литературно отшлифовать, тогда, может быть, их где-нибудь и напечатают. Тут как раз подвернулась командировка в Алма-Ату, и Подтыкан захватил записки с собой.
День опять был хлопотливый, и в гостиницу Яков Петрович вернулся поздно. Умылся и спустился в ресторан поужинать. Свободных мест, как обычно по вечерам, не оказалось, пришлось ждать. Он сел за столик и в ожидании ужина развернул газету «Правда», которую так и не успел посмотреть, протаскав ее весь день в кармане.
Он бегло, почти машинально просматривал заголовки. Начинается посевная. Американцы опять применили во Вьетнаме газы. Советскому врачу-космонавту Егорову присвоена почетная ученая степень доктора медицины Берлинского университета. Очерк под рубрикой «Страницы истории Великой Отечественной войны». Интересно, о чем? О каком-то Коняхине…
«Откуда мне знакома эта фамилия? Ага, танкист. Нет, танков у нас в отряде не было… Постой-ка. Ну да, так и есть. Тот самый, вот и фамилия механика-водителя: Переплетов Иван Митрофанович. И Голенко Василий. Правильно, попали они к партизанам, только не Ковпака, а в отряд Щедрова. Как же неизвестна дальнейшая судьба, когда Иван тут, где-то в этом городе!»
Яков Петрович вскочил из-за стола, сунул газету в карман и пошел к выходу. Потом вспомнил об официанте, разыскал его возле буфета: он кокетничал с молодой официанткой.
— Простите, я хочу вас предупредить, что ужинать не буду. Сколько там с меня полагается?
— Ничего не надо, — сказал официант. — Я еще чеки не успел выбить.
«Не очень-то ты разворотливый парень», — подумал Яков Петрович, но тут же простил официанту его нерасторопность: другой бы и деньги содрал.
Переплетов почти не изменился, только заметно постарел. Подтыкан узнал бы его и на улице, встреться они случайно. А вот Иван Митрофанович своего бывшего командира не узнал. Смотрел с явным недоумением: ворвался в квартиру, стоит и молчит, только смотрит почему-то насмешливо. Наконец спросил:
— Что, брат, не узнаешь?
— Батя!
— Он самый.
Обнялись, расцеловались.
— А я только по голосу и признал. Без бороды-то ты совсем непохожий.
— Пришлось сбрить. Ни к чему она теперь, сейчас в моем возрасте бороду не носят, зато молодые отращивают. Да я-то носил ее только потому, что в лесу каждый день не побреешься. Ну, может, и для солидности. Чтобы вы больше меня уважали.
— Да ты проходи, Яков Петрович, что у порога стоим? Вот здесь раздевайся, проходи…
— Постой, ты сегодня «Правду» читал?
— Не успел я, только что приехал. Все по командировкам разъезжаю, хорошо еще, что застал ты меня дома.
— На вот газету, пока разденусь, читай. Там, между прочим, про тебя написано. Командир-то твой, Коняхин, оказывается, живой, в Москве сейчас.
— Александр Романович? Да не может быть!
— А ты читай.
Так отыскался Иван Митрофанович Переплетов.
И вот я присутствую при встрече Коняхина со своим бывшим механиком-водителем. Тут же и бывший начальник политотдела Александр Яковлевич Зарапин. Анна Захаровна хлопочет у стола, подкладывает в тарелки, напоминает мужу:
— Саша, ты в рюмки-то налей. Наговориться еще успеете.
Александр Романович разливает водку, берет рюмку, хочет что-то сказать, но задумывается. Ставит рюмку, поднимается.
— Извините, я сейчас. — Идет в другую комнату.
Возвращается оттуда с какой-то бумажкой в руках. Подает ее Переплетову. Тот разворачивает, читает. Потом лезет в карман, достает точно такую же. Абсолютно одинаковые бумажки, извещающие об их смерти, — «похоронные».
— И у меня кое-что есть, — говорит Анна Захаровна и тоже уходит в другую комнату. Возвращается с письмом, пожелтевшим от времени. — Я тогда все равно не поверила.