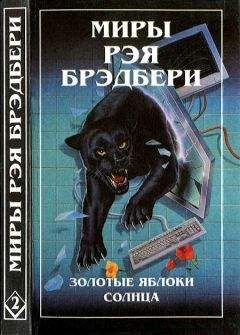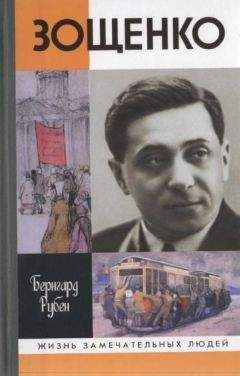В феврале 1929 года все Серапионы собрались в Ленинграде отметить свою восьмую годовщину; вспоминая эту встречу в письме Федину, Слонимский писал летом 1929 года: «Даже Никитин становится хорошим человеком, когда говорит о Серапионах»[250].
Никитин активно искал контакты с редакторами журналов и легко их находил (пример этого в сюжете «Из почты брата-ритора»), работал для газет; присматривался к сцене и со временем освоил драматургию — его пьесы шли широко, но театрального имени автору не сделали. Официальная критика больше на Никитина не нападала, она даже находила у него «стремление выйти на дорогу актуального революционного творчества»[251]. В 1934 году Никитин не только стал делегатом Первого съезда советских писателей, но и получил на нем слово (как драматург — в обсуждении четырех докладов о советской драматургии: Кирпотина, Погодина, Толстого и Киршона). Речь его слилась с общим хором: заявив, что первая пятилетка — «это мечта Сталина», он провозгласил: «Если бы писатели научились мечтать так же, в нашей стране была бы величайшая литература в мире»[252]. Однако крупная карьера не задалась — в правление Союза писателей Никитина не включили. Научиться великой мечте было не реально — чем дальше, тем больше; собственно, вскоре писатели стали мечтать об одном — только бы их не забрало НКВД…
В конце 1930-х годов неарестованные писатели испытывали большие трудности с безусловно «проходными» темами. Таких тем осталось, в общем-то, две: образ великого вождя и борьба с врагами народа. О Сталине Серапионы в прозе не писали (отдадим им должное; Тихонов отдувался в стихах за всех). Слонимский, обжегшись на теме борьбы с оппозицией, сочинял о пограничниках, Каверин — об увлекательных разоблачениях молодыми людьми давних преступлений, Никитин, которого, как и всех Серапионов, в 1937 году не тронули, радовался тому, что выбрал тему борьбы с басмачами: в 1939 году он напечатал роман «Это началось в Коканде». Конечно, у него уже был некий опыт — изданный в 1930 году роман «Шпион». Но ортодоксальная критика тогда его не приняла: «Свойственный Никитину гуманизм затруднил для автора возможность правильно развить тему о политическом вредительстве. Роман получился идейно и художественно бледным и спорным. Стремясь разоблачить шпиона, руководителя диверсионных актов б<ело-го> полковника Маклецова, Никитин отходит от разоблачения, подчеркивая одержимость Маклецова мучительными общечеловеческими страданиями», — сказано в старой Литературной энциклопедии[253] (новая, сообщая о Никитине, ограничивается безоценочным перечнем напечатанного им). Никитин к критике прислушивался: с гуманизмом надо было кончать.
Во время войны Николай Николаевич эвакуировался в Вятку (тогда Киров); иногда он выбирался в Москву; понемногу работал для Совинформбюро, писал рассказики. В конце войны погиб Владимир — его сын от первого брака…
Из Вятки Никитин вел переписку со старыми друзьями; наиболее сердечной она была с Фединым. К. А. чувствовал себя мэтром и охотно наставлял старого товарища: «Коленька, писать надо всерьез и самое желанное, ибо остается мало часов на жизнь…»; «ты еще не выразил себя в комическом, а это твоя прирожденная черта, и ты обязан подумать о комедии»[254]…
Вс. Иванов, встречавшийся в военные годы с Никитиным, записал в Дневнике: «Вечером пришел Н. Никитин, — смирный, потерявший все свое нахальство былое и уверенность»[255], и еще раз: «Вчера собрались „Серапионы“ — Федин, Груздев, Зощенко, Никитин, похожий на тайного советника, разорившегося вконец»[256].
В 1944 году Никитин вернулся в Ленинград и начал работать в редакции одноименного журнала. Летом 1946 года его кооптировали в редакцию «Звезды». Именно в качестве члена редакции «проштрафившегося» органа он был вызван 8 августа 1946-го в Москву и 9 августа присутствовал на историческом заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), где Сталин, Жданов и Маленков топтали Зощенко. Тихонову по должности главы Союза писателей пришлось что-то лопотать, а второй Серапион, сидевший на заседании, — Никитин — судя по стенограмме, не проронил ни слова. Но когда через неделю Жданов приехал в Ленинград и выступил перед писателями в Смольном и в его докладе уже громились Серапионы, Никитину выступить пришлось. «Серый костюм на нем слегка тесноват и подчеркивает полноту. Сквозь стекла очков он беспомощно оглядывает зал, потом поворачивается, переводит глаза на Жданова и говорит, обращаясь уже не к сидящим в зале, а только к одному Жданову. От волнения он путает его имя и отчество и дважды называет его Александром Андреевичем. Он говорит, захлебываясь, путаясь. И вдруг, обрывая себя на полуслове, говорит, что ему трудно выступать с этой эстрады, и тяжело спускается в зал»[257]. Из состава редакции «Звезды» его вывели…
После войны Никитин продолжал работать над романом «Северная Аврора», задуманном еще в эвакуации. И успел заслужить им Сталинскую премию. Роман посвящен «героической борьбе советского народа с англо-американскими интервентами в 1918 году на Севере» — в нем, понятно, не живописалось страшное, темное и сексуальное в человеке, не было ничего нутряного и стихийного; премия такому роману гарантировалась.
О литературной своей молодости Никитин вспоминать боялся, и в поздней автобиографии писал о Студии Дома Искусств так: «Наши студийные занятия были далеки от тех новых идейных позиций, которые принесла революция. Идей у нас в студии „избегали“. Шла речь лишь о литературной технике. Этим многое объясняется в наших литературных уклонах… Это была игра с огнем. Опасные годы. Тот, кто сумел выскочить из этой страшной игры, чуть не сгубившей, приобрел опыт…»[258]. Первый свой и самый знаменитый рассказ «Кол» в этой подробной автобиографии он даже не упомянул.
Последние годы Никитин много болел. Он почти безвылазно жил на дачке в Комарово, занимался цветами, огородом, вел жизнь вполне вегетарианскую. В декабре 1960-го в последний раз выбрался в Москву и написал об этом Ольге Форш: «Все мои друзья и „современники“ в Москве. А здесь я даже не знаю, с кем встречаться?.. Кстати, в прошедшем декабре я посетил Москву и рад был необычайно нескольким встречам: с Костей Фединым, с Колей Тихоновым, с Алисой Коонен…»[259]. В Москву он хотел перебраться очень давно — еще в 1922-м! (Пильняк сообщал Горькому 18 августа 1922-го: «Я в этом году решил окончательно переехать — в Москву, сюда же переезжают Никитин и Вс. Иванов, будем жить вместе, снимем дачу»[260]) — но не судьба была. В 1962 году Никитин написал Полонской: «Печаль! Смотрел меня нервный патолог. Удивлялся очень: „Вы знаете, во всем склероз, но что касается головы, она у Вас всегда ясная, светлая и чистая. Ни малейшего склероза“. Да я и сам чувствую, когда в мыслях паришь. А руки… Ручки устали от штурвала. В сем пункте быстро сдаю… Эх, написать бы еще одну штуку! Старый рубака должен умереть на коне…»[261]. Это была последняя мечта, и сбыться ей оказалось не суждено…