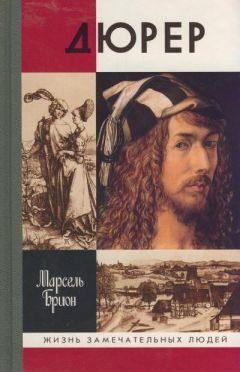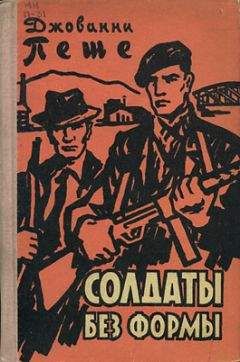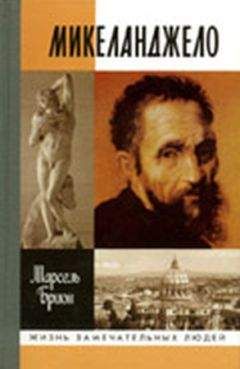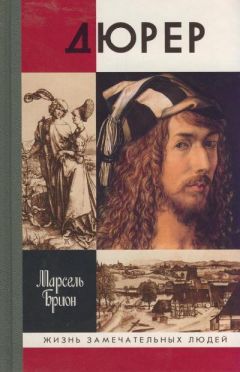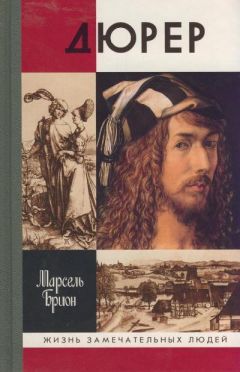Истинные ценители определят то, что было нового, смелого и не шонгауэровского в «Святом семействе с кузнечиком» и «Мадонне с обезьянкой» — его первых гравюрах на меди. Они оценят свободу штриха, бархатистую мягкость черного, смелость изображения нарядов и лиц. Им понравятся также пейзажи, свободные от обычных штампов, легкая и вибрирующая атмосфера, красота лиц, сдержанность натурализма, не требующая точного воспроизведения реальности, а только изображения природы, полной величия и нежности.
Самым замечательным и новым в его гравюрах была не столько блестящая техника, которой не знали еще в Германии, сколько новое видение природы. До сих пор пейзаж оставался в строгой зависимости от сюжета, он был всего лишь декорацией, предназначенной придать красочность строгому религиозному сюжету. От него не требовалось строгого соответствия реальному пейзажу, поэтому было неважно, что он был чисто декоративным, искусственным, словно декорация в театре.
Влияние венецианцев помогло Дюреру освободиться от подобной стилизации, которая пока сохранялась в работах большинства его соотечественников. У живописцев Швейцарии и Тироля он также встречал прекрасные примеры натуралистических пейзажей. Мозер, Виц, Пахер, очень любившие природу и те чувства, которые она пробуждает в человеке, пытались изображать пейзажи такими, какими они их видели. Наконец, Беллини неразрывно связывал природу со всеми событиями жизни человека.
Многообразие пейзажей, которыми любовался Дюрер в ходе странствий, тщательность, с которой он рисовал или писал акварелью все, что видел наиболее прекрасного и удивительного, обогатили его опыт. Его акварели приводили в восторг истинных ценителей искусства: то, что ему удавалось передавать, возможно, впервые в немецкой живописи, — это прямое восприятие природы не как декоративного элемента, а как вещи в себе, способной в то же время тесно ассоциироваться с чувствами человека, который ее созерцает.
Даже когда его акварели представляли собой документальное свидетельство увиденного, они поражали необыкновенной свободой исполнения, которая могла возникнуть только в случае духовного единения мастера с изображаемым пейзажем. Они запечатлевали природу в определенный момент, в каком-то определенном месте, в определенный час дня и в то же время свидетельствовали о глубокой гармонии в этот момент между пейзажем и тем, кто его созерцал. Небо, наполненное светом, плывущие облака, живописные замки, возвышающиеся на холмах, или небольшие деревни на берегу голубоватого озера — все свидетельствовало о поиске истины, что было одной из важнейших черт искусства и характера Дюрера. Но в то же время возникало едва уловимое ощущение того сердечного трепета, который испытывает художник перед солнечным закатом, розовым и зеленым, темно-синими сумерками, а иногда перед простым отражением дерева в воде.
Сказалось ли влияние итальянцев на столь новаторских акварелях? На самом деле, это не так важно. Италия сыграла всего лишь роль «оплодотворителя идей». Создавая пейзажи, Дюрер пробудил в себе что-то очень глубокое и важное. Непосредственный постоянный контакт с непрерывно меняющейся природой обогатил одновременно его искусство и его чувствительность. Возможно, что манера венецианских живописцев помогла ему «увидеть» пейзажи, так как именно художник зачастую помогает нам увидеть в природе такие аспекты, которые мы были неспособны замечать раньше. Его акварели, которые в ту эпоху были наиболее смелым новаторством в его искусстве, ничем не были обязаны другим мэтрам, с искусством которых он познакомился. Они не были результатом ни заранее продуманной эстетики, ни заимствованной техники, ни интеллектуального побуждения; что делает их настолько ценными, — это, напротив, то, что они были результатом мгновенного вдохновения, непроизвольного, может быть, даже бессознательного.
Выдающийся художник родился в Нюрнберге, но Нюрнберг не сразу заметил это. Возможно, Альбрехту Дюреру пришлось бы прозябать еще в течение нескольких лет, если бы на него не обратил внимание облеченный властью ценитель искусства. Молодой курфюрст из Саксонии имел репутацию мецената, одновременно щедрого и просвещенного. Он не уделял много времени собственному образованию — оружие и лошади его интересовали больше, чем книги, но он обладал определенным природным вкусом, определенной способностью выбирать среди художников своего времени наиболее оригинальных, наиболее одаренных, способных принести славу его правлению. Он опекал старого Вольгемута, но его симпатии были обращены на молодые таланты, он гордился тем, что открывал и вдохновлял их. Он покровительствовал Гансу Бургкмайру, которого Дюрер встретил у Фуггеров в Аугсбурге, а также совсем неизвестному сыну гравера, который, как и отец, занимался ксилографией, — Лукасу Кранаху. Кранах обладал свободной и богатой фантазией, поразительным изяществом, полным деликатной чувственности, нежной поэзии и юмора.
Когда гравюры Дюрера прибыли в Веймар, курфюрст восхитился оригинальностью его искусства, которое проявилось в них наряду с немецкой традицией и итальянским влиянием. Фридрих Мудрый умел распознать талант. Он решил познакомиться со всем, что создал молодой нюрнбержец, и однажды, примерно через год после возвращения из Италии, Дюрер получил лестный заказ на портрет.
Это было одновременно и большой честью, и опасным испытанием. До сих пор Дюрер написал всего несколько портретов, так как знатные нюрнбержцы пока еще не решались обращаться к нему. Полученное предложение должно было определить его будущее. Если ему удастся удовлетворить Фридриха Мудрого — ему обеспечен успех. Курфюрст задавал тон в просвещенных кругах Германии, подобно Медичи и Сфорца в Италии. Если он понравится высокопоставленному ценителю искусств, то немецкая знать будет тоже заказывать ему свои портреты, и буржуа Нюрнберга, обеспокоенные тем, что их обошла аристократия, также, в свою очередь, поспешат оказать ему внимание.
Фридрих Мудрый был достаточно корректен, чтобы не ограничивать фантазию и вдохновение художников, которых он опекал. Обращаясь обычно к молодым, он хотел, чтобы они смогли доказать свою оригинальность и независимость; общаясь с гуманистами, он знал, что происходит в Италии, и не возражал, чтобы молодые художники использовали новейшую технику итальянских мастеров. Но он не хотел, чтобы немецкие художники превращались в простых имитаторов. Дух времени требовал создания немецкого искусства, уходящего глубокими корнями в национальные традиции, но в то же время широко открытого иноземным нововведениям. Фридрих Мудрый воображал себя, подобно правителям Милана, Флоренции и Венеции, человеком Возрождения. Это слово пока еще не существовало, и люди той эпохи больше заботились о том, чтобы быть таковыми, а не давать точных определений и объяснять это. Но Возрождение уже витало в воздухе, даже в Германии, и было подобно неизвестному ветру, более живому, более ясному, более свободному, несущему новые веяния.