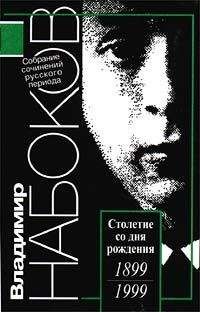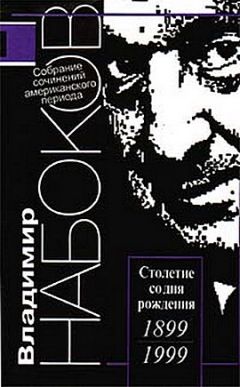планами, – и ему несказанно повезло, что Зина не только понимает, но и с готовностью приемлет нелёгкую, но и
преисполненную вдохновляющей миссии, совместную с настоящим творцом
судьбу.
И пусть в мечте, но тут же, не удержавшись от соблазна: «Ах, я должен
тебе сказать...» – Фёдор, с прорвавшимся вдруг энтузиазмом, пускается, под
видом перевода из Делаланда, вслух медитировать на предмет той судьбы, которую он хотел бы себе пожелать, – вплоть до сценария этакого, безоглядной
4 Там же. С. 522-523.
1 Долинин А. Истинная жизнь… С. 182-183.
2 Набоков В. Дар. С. 523.
3 Там же.
518
лихости пира по поводу собственной смерти.4 Это ли не последний, победный
аккорд, оставленный в назидание всем хоронящим себя при жизни Мортусам?
«А вот, на углу, – дом». Ну и что же, что у них нет ключей от квартиры, –
главный ключ, от судьбы, – в их руках. Некоторые внимательные читатели
удостоены особой привилегии: для них «не кончается строка», и «за чертой
страницы» их снова ждут «завтрашние облака». К чему приглашает последний
абзац «Дара», который, как давно разгадано специалистами, «представляет
собой правильную онегинскую строфу и перекликается с финалом «Евгения
Онегина».5
РУССКАЯ МУЗА И ЕЁ КАМУФЛЯЖИ
В ТВОРЧЕСТВЕ НАБОКОВА
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)
Для героя «Дара» полное и счастливое воплощение обещанного ему «рисунка
судьбы» так и останется, увы, за чертой страницы… Но его автор оказался гораздо
удачливей: когда «тень, бросаемая дурой-историей, стала наконец показываться
даже на солнечных часах»,1 писатель Сирин, в августе 1939 года, с радостью принял
предложение М. Алданова прочесть через год вместо него лекции по русской литературе в летней школе при Стэнфордском университете. 20 мая 1940 года, за три
недели до вступления немецких войск в Париж, семья Набоковых на океанском
лайнере «Шамплен» покинула Францию. Новую жизнь в Америке Сирин начал уже
Набоковым. Принятый в Нью-Йорке русскими американцами, литературными критиками как само собой разумеющийся классик русской литературы2, Набоков в
июне 1940 года опубликовал эссе с обязующим названием «Определения». Обойдя
деликатным умолчанием все прошлые, в Европе, внутренние распри русской литературной эмиграции, он с поразительной ясностью и достоинством отдал дань
творческому пути, пройденному там за двадцать лет всей эмигрантской литературой. Этот своего рода манифест заслуживает нижеприведённого цитирования:
«Термин “эмигрантский писатель” отзывает слегка тавтологией. Всякий
истинный сочинитель эмигрирует в своё искусство и пребывает в нём. У сочи-4 Набоков В. Дар. С. 523-524; Долинин даёт справку, что приводимый Фёдором далее
пассаж больше всего напоминает рассуждение Монтеня в эссе «О суете» (“De la vanite”) о том, какая смерть могла бы оказаться для него самой лёгкой и даже желан-ной: Долинин А. Комментарий… С. 549-551.
5 Набоков В. Там же. С. 524; Долинин А. Там же. С. 551.
1 ВН-ДБ. С. 245.
2 См. об этом: Долинин А. Истинная жизнь… С. 32-33.
519
нителя русского любовь к отчизне, даже когда он по-настоящему её не покидал, всегда бывала ностальгической. Не только Кишинёв или Кавказ, но и
Невский проспект казались далёким изгнанием. В течение последних двадцати
лет, развиваясь за границей, под беспристрастным европейским небом, наша
литература шла столбовой дорогой, между тем как, лишённая прав вдохновения и печали, словесность, представленная в самой России, растила подсолну-хи на задворках духа. “Эмигрантская” книга относится к “советской” как явление столичное к явлению провинциальному. Лежачего не бьют, посему грешно
критиковать литературу, на фоне которой олеография, бесстыдный исторический лубок, почитается шедевром. По другим, особым причинам, мне неловко
распространяться и о столичной нашей словесности. Но вот что можно сказать: чистотой своих замыслов, взыскательностью к себе, аскетической жили-стой силой она, несмотря на немногочисленность первоклассных талантов
(впрочем, в какие-такие времена бывало их много?), достойна своего прошлого. Бедность быта, трудности тиснения, неотзывчивость читателя, дикое невежество среднеэмигрантской толпы – всё это возмещалось невероятной возможностью, никогда ещё Россией не испытанной: быть свободным от какой
бы то ни было – государственной ли, или общественной – цензуры».1
Этот текст – квинтэссенция, в концентрированном и последовательном ви-де излагающая основные постулаты, на которых Сирин настаивал давно и которым всегда следовал сам. Это очевидно и по текстам его докладов в литературных кружках, и по самим его произведениям тех лет. Но тогда – во второй половине 1920-х и почти до конца 1930-х годов – многие бывшие соотечественники, жившие в Европе, усматривали в творчестве Сирина, в его взглядах и вкусах
несоответствие «истинным» нуждам и «гражданским» традициям русской литературы, и, как отмечает Долинин, «кровные связи Набокова с русской литературной традицией были замечены только задним числом... Современники вос-принимали Сирина, говоря словами Газданова, как “писателя, существующего
вне среды, вне страны, вне всего остального мира”, – то есть видели в нём “случайного гостя”, постороннего, а не активнейшего участника литературного процесса, каковым он был на самом деле».2 Парадокс, полагает Долинин, заключается здесь в том, что признание Сирина связанным кровными связями с русской
традицией пришло слишком поздно – только «после того, как он сам от неё отказался»,3 – что, по мнению этого исследователя, произошло, когда, приехав в
Америку, писатель перешёл на английский язык