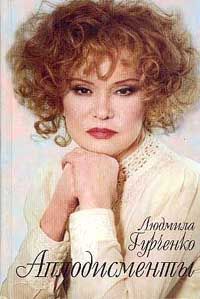Ну! Восторг! Все наперебой зовут Петера к своим столикам. Но человечек всех опережал: «Артист очень устал, граждане… нужен отдых… вам развлечение, а ему работа…»
Как я поняла, что человечек переводил немцам смысл песен? Именно по «Чубчику». Нагнувшись к немцу, он что-то шептал. А немец, кивая, трогал себя за волосы и повторял: «Чубчи, чубчи — дас ист гут! Шнапс, битте, Петер, браво! Шнапс!» Часто Петер, немецкий офицер и человечек с аккордеоном уходили из кафе вместе, в обнимку…
А когда Петер входил к нам на кухню — это был праздник. По-моему, в него были влюблены все женщины. Даже Швабра и та вся млела. Петер обладал редким обаянием. От него исходила какая-то сверхъестественная сила. Вокруг него было магическое поле. Я наблюдала за всеми — он всех обезоруживал. У тети Вали готовилось ее чудодейственное перевоплощение: с утра — в платке, бледная; к приходу Петера — прическа, губы, бантики, «туфельки». На груди — кружевной передник, прикрытый сверху клеенчатым. А вдруг зайдет Петер — клеенчатый передник — хоп — и пожалуйста, кружевной. Хо-хо! Шик! И Швабра пошире подрисовывала свой узкий рот помадой. И мама преображалась — она ничего не делала специально, но вся светилась изнутри и хорошела. И я понимала, что она-таки может понравиться…
Ну а я по уши была влюблена в Петера. Он мне даже снился. С утра я уже считала время, когда же я наконец увижу его. Когда он входил в кухню, я бросала на него отрепетированный перед зеркалом «загадочный» взгляд. Такой взгляд был у Марики Рекк в фильме. Ведь именно после этого взгляда следует поцелуй. Значит, в этом взгляде есть сила.
Для всех у Петера была шутка, доброе слово, анекдот. Меня он трепал по стриженой голове. Ничего обиднее для меня не могло быть. Я резко вырывалась и, чтобы не выдавать себя, начинала кружиться и запевала «под него» «Чубчик». Но и тут меня ждал провал — я до четырнадцати лет сильно шепелявила, а в восемь — особенно. И, как назло, в песне все слова были с шипящими! И получалось: «щубщик, кущерявый». Я опять настойчиво бросала на Петера свой томный, загадочный взгляд — может, с первого раза до него не дошло? Наверное, он не понимает «моего чувства», надо ему помочь. «Что с тобой, киндер? А? Может, тебя кто-то обидел? Ты скажи… Мы его! Ах ты, мой „щубщик, кущерявый“» — И, подмигнув женщинам, Петер выходил в зал. Доносилось: «Та чево там! Шмага! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!»..
Я стояла оглушенная. Какой стыд, как больно… Значит, мой взгляд не загадочный, значит, я просто жалка! Меня жалеют, надо мной посмеиваются, а я так люблю! Ночью, в постели, отвернувшись от мамы, я тихо и горько плакала. Я уговаривала себя, что больше никогда не буду никого любить, чтобы так не страдать. «Не любить никого, никогда, ни за что».
Был август 1943 года. Все шло своим чередом. Петер пел свои песни, кричал: «Шмага! Инструмент! Дайте в руки мне гармонь!..»
Все повторяли его «Та чево там», человечек «готовил» аккордеон, собирал деньги в шапочку, переводил немцам то, о чем пел Петер… Кафе процветало вовсю!
… Как обычно, Петер зашел на кухню, был весел, попробовал того-сего, посвистел и как бы невзначай сказал маме: «Скоро в Харькове будут наши, поняла?» И быстро вышел в зал. «Та чево там!..» Его приветствовали, пошла «Черемуха»…
А я ведь все слышала. Я следила за каждым его шагом, ревновала к тете Вале, к маме, даже к Швабре. Дома мама ничего не сказала тете Вале, только: «Валь, знаешь, а странный все-таки этот Петер…» А ведь секретов между ними вроде не было.
Вскоре начались бои за Харьков. Кафе закрылось. Петер исчез. Немцы наспех проводили последние казни.
Среди «партизан» я вдруг увидела того «стертого» человечка… Он был так избит, что узнать его было трудно. Я обратила на него внимание потому, что он стоял чуть в стороне от других приговоренных и был в брюках, а не в белье. Он смотрел в землю, на груди висела дощечка «Партизан». Петера среди них не было.
На нашей Клочковской, на Бурсацком спуске, на Благовещенском базаре еще долго вспоминали Петера, пели его песни и всем рассказывали, что «вот же как оказалось: этот Петер — ну, такой красивый парень с аккордеоном, и тот, что рядом с ним — ну, в немецкой шапке, на самом деле были советскими разведчиками. Под самым носом у фрицев…»
Немцы, отступая, взорвали Дворец пионеров — главный свой штаб. Но в Харькове пронесся слух, что Дворец взорвали партизаны в тот момент, когда у немцев там было заседание.
«Наверняка Петер, — подумала я, — конечно, Петер, кто же еще…»
Была у меня до Петера еще одна влюбленность. Но влюбленность другого рода — «братская» или «сестринская»… Была потребность кого-то опекать, постоянно кем-то восхищаться. Маме было не до меня. Жива, здорова, не болею — это главное. А что там у меня внутри — этим никто не интересовался. Маме я была непонятна. А если и понятна, то сильной схожестью с папой, которая ее раздражала. «Оба идиоты», — вырывалось у нее. Я искала себе объект, на который могла бы обрушить шквал чувств. Они мне раздирали душу и рвались наружу. Тетя Валя не выдержала моей любви, мама ей ближе. Мои друзья по базару нашли уже другую девочку. А единственного человека, который меня понимал, интересовался всем во мне и испытывал еще большую, чем я, потребность себя отдавать и заставлять себя любить, — моего папы — со мной не было.
И вот в начале лета 1943 года, а может, и весной я отправилась по улицам в поисках «объекта счастья»! На мне было новое платье — первое платье с тех пор, как началась война. Мама купила на базаре большую кофту из тонкой шерсти — бордовую с мелкими черными полосками. Из нее тетя Валя сшила мне платье к маминому дню рождения. День рождения мамы отметили моим новым платьем. А я сама сделала из папиного довоенного галстука — голубого с желтыми цветочками — три бантика! И пришила их на месте пуговиц. Сразу три бантика! 18 мая 1943 года моей маме исполнилось двадцать шесть лет.
Значит, это было весной. Я шла в новом платье, в старых ботинках по Рымарской, по Бурсацкому, по Клочковской и от счастья, как говорил папа, «света божжага не видела».
Тогда были первые бантики… Ничего с собой не могу поделать и сейчас — вижу платье, не нужное в данный момент, но вдруг замечаю на нем бантик… «Я куплю. Спасибо.» — И заплатив за покупку, не торгуясь, прижимая ее к сердцу, счастливая, бегу скорей домой.
Никого не встретив, но вполне довольная своим видом, я уже подходила к нашему парадному, как вдруг прямо напротив нашего дома, во дворе, увидела просто сказочную картинку. Девочка моего возраста держала в руке красивую деревянную стрелочку с изогнутой рукояткой и бросала мальчику деревянные кружочки-кольца. Он их ловил на такую же стрелочку и опять бросал кольца девочке. Двигались они уверенно, и видно было, что эта игра («серсо») для них привычна.