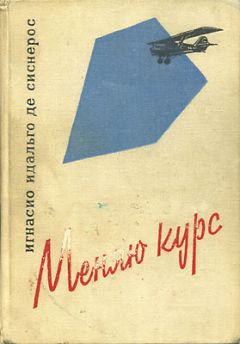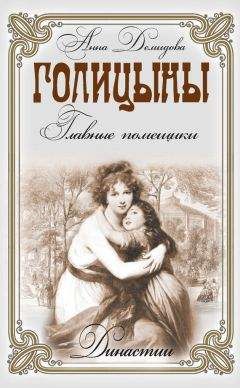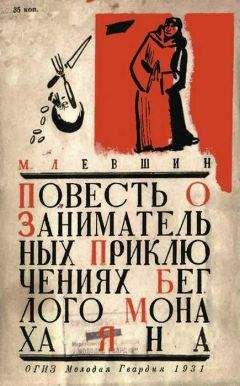— Иванов! Наши разбили фашистов на аэродроме! — бурно радуется механик.
— Откуда ты знаешь такие подробности? — не без удивления спрашиваю испанца.
— Видите? — показывает он на истребитель, который, прежде чем идти на посадку, выделывает в небе одну «бочку» за другой.
Судя по каскаду фигур, у Иванова превосходное настроение.
— Мне камарада Иванов, улетая на задание, сказал, что если все будет хорошо, то перед посадкой сделает две «бочки». Ну вот видите, — ликует механик, — он сделал не две, а четыре — значит, республиканцы бомбили очень хорошо.
Панас рулит на свою стоянку. Обернувшись в нашу сторону, поднимает руку и показывает большой палец. Быстро отстегивает парашют и бегом направляется к командиру.
— Ну как?
Докладывая Минаеву о результатах полета, Панас сообщает, что к аэродрому противника республиканцы пришли в самый подходящий момент: фашистские летчики запускали моторы, только-только собирались вылетать. Заметив республиканские бомбардировщики, франкисты бросили свои самолеты и разбежались в разные стороны. После бомбометания на аэродроме горели пять «фиатов». На обратном пути встретилась группа вражеских истребителей, но тут подоспели «чатос». Среди них был самолет Анатолия Серова. Все республиканские бомбардировщики вернулись на свой аэродром. Иванов проводил их до места посадки.
— Хорошо, — говорит Минаев, выслушав доклад. — Хорошо, Панас!
Для того, чтобы читателю было понятно, почему вспыхнул, услышав эти слова, наш друг Иванов, я должен напомнить, что его звали Николаем, а «Панас» было имя, которым он в шутку подписал свою злополучную записку.
Николай Иванов (Панас).
«Панас»! — с того памятного дня это имя навсегда прикрепляется к Иванову. Постепенно мы все реже и реже называем его Николаем и все чаще — Панасом. Мы забываем историю с запиской, и сам Иванов уже не видит ничего обидного в имени Панас. Честное слово, это имя почему-то гораздо больше к нему подходит. И когда через год мы приезжаем в Скоморохи, стучимся в квартиру матери Иванова и спрашиваем ее: «Панас дома?», — она без удивления отвечает нам: «Дома, дома. Заходите». А спустя еще полгода, когда мы хороним Панаса, героически погибшего при испытании нового самолета, я читаю на надгробном обелиске его настоящее имя словно имя чужого, незнакомого человека: «Летчик-испытатель Николай Иванов».
Но вернемся к истории с запиской. Эта история имела продолжение.
Вскоре после полета Панас подошел ко мне:
— Пойдем покурим, Борис. Ты все еще сердишься на меня?
— Нет, уже не сержусь…
Панас закурил. Было заметно, что ему хочется высказаться. Надо знать Панаса — это очень искренний человек.
— Скажу только тебе, Борис, — произнес он наконец, — причем под строгим секретом.
— Опять что-нибудь натворил? — невольно накинулся я на него.
— Да, Борис! Но даю слово — это уже действительно в последний раз! Я им еще одну записку сбросил.
Я остолбенел.
— Всего три слова: «Поздравляю с переселением на небеса».
Я посмотрел на Панаса и… расхохотался. Ну что с ним поделаешь!
— А если бы удар по аэродрому оказался не таким удачным? — говорю ему, еле сдерживая смех.
— Этого не могло случиться! — с горячностью ответил Панас. — Ведь ты сам знаешь, как испанские летчики выполняют задания. А кроме того, я сбросил записку, когда уже несколько фашистских самолетов были охвачены огнем.
Но тут же он нахмурился и спросил:
— Как ты думаешь, Борис, сказать об этом Саше?
— Тебе следовало бы сказать об этом Минаеву полчаса назад, когда ты докладывал ему о результатах выполнения задания.
Панас взглянул на меня:
— Хорошо.
И, бросив недокуренную папиросу, он пошел в сторону командного пункта.
Минут через десять вернулся.
— Ну что?
— И смеялся, и ругал. А в конце сказал, что в следующий раз отстранит от полетов. По-моему, сказал так, для острастки. Как ты думаешь?
В полдень на аэродром привозят свежие газеты, журналы, письма. Мы с нетерпением ждем прибытия почты, хотя писем нам пока еще не шлют и, наверное, не скоро пришлют, а газеты и журналы — испанские, мы читаем их еще с трудом. Но желание узнать, что происходит на фронте, в мире, а главное — как живет наша Родина, так велико, что мы с жадностью развертываем и мадридские газеты.
И вдруг… Не ослышались ли мы? Наш почтарь веселым тенорком кричит нам, размахивая пачкой газет:
— Камарадас! Периодико русо! (русские газеты!)
Что есть духу бежим навстречу почтальону. Никогда не думал, что можно так обрадоваться не письму, не весточке от родных, а газете. А впрочем, сейчас газета для нас — письмо с Родины, письмо о Родине.
— «Правда!» — восторженно кричит Панас, потрясая номером газеты.
Волощенко осторожно, двумя пальцами, держит в руках «Огонек». Знакомый заголовок «Известия» поглощает все внимание Бутрыма.
Кого благодарить? Кто так здорово придумал, прислав нам как раз те номера газет, о которых мы больше всего мечтали, — номера, посвященные перелету Чкалова и его друзей?!
Двадцатого июля Иван Кумарьян прочитал нам из одной испанской газеты очень краткое сообщение о том, что советский летчик Чкалов вместе с двумя своими товарищами на одномоторном самолете перелетел через Северный полюс и приземлился в Америке. И больше никаких подробностей. Все наши попытки узнать что-нибудь еще — тщетны, другие газеты прошли мимо этого события и печатали, главным образом, о происходящей войне, о политике вокруг нее.
И вот наконец-то смотрим на портреты дорогих нам земляков — Чкалова, Байдукова, Белякова, с жадностью читаем все, что относится к этому удивительно смелому свершению в истории человечества. Представляем, с каким удивлением американцы смотрят на героев русских с приятными добродушными лицами, на тех самых русских, о которых в те годы так часто говорили как о невежественных, почти первобытных или представляли их в образе красных комиссаров, готовых уничтожить все святое на земле.
Каждая прочитанная нами строчка вызывает в душе ликование, гордость за Советский Союз. Даже одно то, что мы сами являемся советскими летчиками, дает нам право принять частицу мужественного чкаловского перелета как свое личное дело.
Испанские летчики, техники спрашивают, знал ли кто из нас Чкалова. Саша Минаев отвечает:
— Вместе учились летать. Валерий на два года раньше меня окончил военное училище летчиков.
Испанцы вопросительно смотрят на нас. Мы с Петром Бутрымом дополняем. Говорю я и беспокоюсь, сможет ли Иван Кумарьян точно перевести: