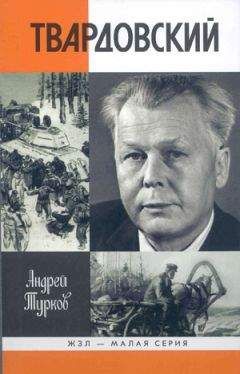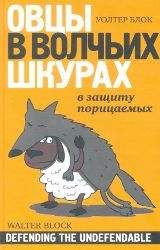Они и замаячили.
От поэта продолжали требовать, по его выражению, «„календарно-юбилейных всплесков поэзии“. „Новогодняя глава“ не пошла нигде — ни в моей „Красноармейской правде“, ни в „Комсомолке“, где у меня ее выпрашивали целый месяц, — извещал Твардовский Марию Илларионовну 15 января 1943-го, — ибо она не была, по их понятиям, „Новогодней“, не говорила о том, что в этом году мы добьемся (надо понимать, новых побед, если даже не окончательной. — А. Т-в), будем и т. д. и т. п.» (речь шла о «простой» главе «Тёркин — Тёркин»).
Недовольные «заказчики» организовали было в редакции «Комсомолки» чтение главы, нацеленное на последующий разгром, однако оно обернулось восторгом непредубежденных слушателей.
И все же, как сообщал поэт жене, «по-прежнему радости мешаются с огорчениями»: «Днями я получил новую порцию… в связи с „указаниями“ по моей книге. Три дня ходил как больной».
В ЦК предлагали очередные сокращения, даже дружески настроенный по отношению к автору и его детищу Фадеев вдруг заговаривал, что книга «нуждается в критике». «В эфире полное отсутствие твоих стихов», — замечала и жена.
Всё это даром не проходило. «Трудно писать, то и дело озираясь на строчки, которые „могут быть поняты не так“, — жалуется поэт „Машеньке“. — Я уже боюсь, что начинаю следить за собой…» (Не здесь ли впервые возникает зловещая тень своего собственного, внутреннего редактора, который будет яростно описан и изобличен в послевоенной книге «За далью — даль»?)
Твардовский вынужден был обратиться на самый «верх» — к Маленкову.
«На „Тёркина“, — писал он, — пала тень неизвестного, но столь авторитетного осуждения, что он был вдруг запрещен к передаче по радио, вычеркнут из плана издания в Воениздате, и журналы, обращаясь ко мне за стихами, стали просить „что-нибудь не из Тёркина“. Редактор фронтовой газеты, где я работаю и где Тёркин печатался по мере написания новых глав, попросту сказал мне: „Кончай“.
Понятно, окончить книгу независимо от собственного моего плана я не мог. Я продолжал работать, но печатать новые главы было все труднее».
«Зловещий шум и толки» сопровождали как раз лучшие страницы книги, например, главу «Смерть и Воин». Вообще всякие упоминания о потерях, гибели, убитых встречались в штыки и нередко изымались при публикации. Мария Илларионовна саркастически вспоминала, что «с точки зрения военной редакции, советская армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бессмертных бойцов».
Публикация новых глав стопорилась, чтение по радио обрывалось, и само имя автора исчезало из статей и докладов того времени о поэзии. Видный партийный деятель Щербаков, тот самый, кто некогда докладывал Сталину о появлении нового имени — Твардовского, теперь вообще «спустил указание» кончать «затянувшуюся» книгу, и фронтовой начальник поэта, как попугай, повторял его.
В это трудное время огромнейшее значение для поэта имела неизменная поддержка Марии Илларионовны. То была, действительно, как сказано в «Книге про бойца», «та любовь, что вправе ободрить, предостеречь, осудить, прославить». Жена не только хвалила автора за «озорство», по ее выражению, с каким он гнул свою линию, но прямо высказывала в письмах появлявшиеся у нее сомнения и опасения по поводу происходившего или только намечавшегося «сбоя» в сюжете, а иное даже подсказывала, но весьма деликатно, нимало не навязывая своего мнения. «Если у тебя планы другие — следуй им. И не смущайся тем, что читатель у тебя на кухне сидит. Ну так что ж? Этот читатель должен понимать, что в дыму походного костра, конечно, легче испечь картошку, нежели пирог, например», — умно и весело заключает Мария Илларионовна одно из своих серьезных раздумий над очередными главами «Книги про бойца» и наметками дальнейшего повествования. А между тем дорогого стоят одни только ее размышления о неизбежности и плодотворности назревшей эволюции главного героя книги: «…Поумнеть он должен, как другие за 10–20 лет. Поумнеть, внутренне подтянуться, посуроветь, поугрюметь, может быть, — словом, он тот же, да не тот».
«Смерть и Воин» — кульминация книги, ее вершина, горный перевал, с которого уже открывается новая даль — дорога к победе.
Конечно, она потребует нового напряжения сил. Твардовский писал Исаковскому, что происходящее в ознаменованном многочисленными успехами 1944-м «по внешним признакам передвижения, усталости и т. п…напоминает первое лето, только по существу все совсем иное». «Я счастлив, что своими глазами вижу этот заключительный этап того, что так перегрузило мою душу в своем начале».
Да, все иное! Давняя, зимняя переправа, описанная в знаменитой главе, была полна трагизма: в «глухой ночи» «люди теплые, живые шли на дно, на дно, на дно…». Нынешняя же, через Днепр, освещена поднимающимся солнцем, а вместо темного «неподступного» леса, хранившего недоброе, угрожающее молчание:
…ребятам берег правый
Свесил на воду кусты.
Подплывай, хватай за гриву.
Словно доброго коня.
Передышка под обрывом
И защита от огня.
Роли изменились, и вражеские солдаты с лихвой расплачиваются по давнему счету:
А на левом с ходу, с ходу
Подоспевшие штыки
Их толкали в воду, в воду,
А вода себе теки…
В чем мать родила, шатаясь от усталости, губами шевельнуть не в силах, представал перед нами переплывший морозную реку Тёркин, — но не был он жалок, он не спасался, а воевал. И какой же контраст с ним составляет принявший вконец отрезвившую его днепровскую «ванну» гитлеровец:
К штабу на берег восточный
Плелся стежкой, стороной
Некий немец беспорточный,
Веселя народ честной.
— С переправы?
— С переправы.
Только-только из Днепра.
— Плавал, значит?
— Плавал, дьявол,
Потому — пришла жара…
— Сытый, черт!
Чистопородный.
— В плен спешит, как на привал…
Однако поэт оставался верен «правде сущей» и зло высмеивал мифические картины легких побед, например в главе «Бой в болоте»:
Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?
Что с удачей постоянной
Тёркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил?
Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населенный пункт Борки.
При долгожданном форсировании Днепра совсем не исключен трагический исход: