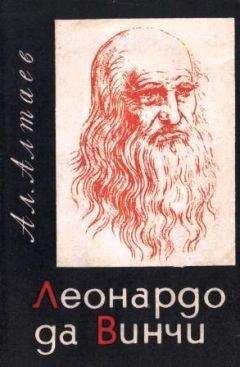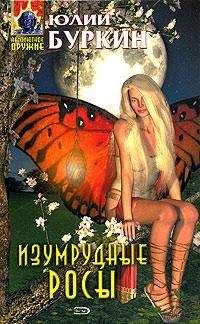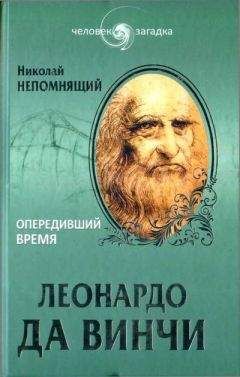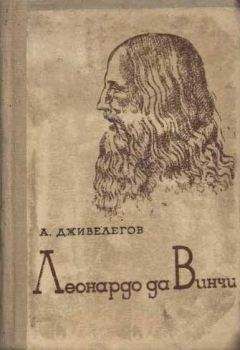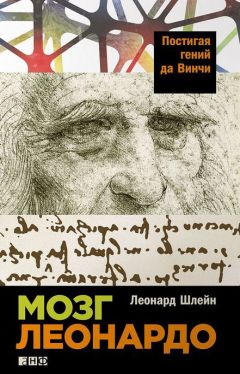Франкино Гаффурио, любимец Цецилии, часто играл ей на виоле. Лицо его продолжало интересовать Леонардо, и он хотел изучить его. Для этого лучше всего было понаблюдать музыканта в соборе, где он управлял хором и играл на органе.
Встречая выходящего из церкви художника, соседи начинали сомневаться: так ли уж мессэр Леонардо да Винчи подпал под власть нечистой силы, если не чуждается божьего храма, и это отчасти отвело от него угрозу доноса епископу.
Цецилия хотела иметь портрет своего любимого музыканта, и, закончив писать картину «Дама с горностаем», Леонардо стал у нее же писать портрет Гаффурио.
Ему нравилось это серьезное, умное лицо в рамке густых каштановых волос. Он писал музыканта в том самом черном бархатном костюме, в каком встретил в первый раз. Желто-коричневая отделка костюма составляла приятную гармоничную гамму с цветом волос и глаз…
Лицо на портрете было вполне закончено, но работу пришлось бросить из-за новых, не терпящих отлагательства заказов: в Милане только и говорили что о флорентийском художнике, и всем знатным дамам непременно хотелось иметь свой портрет или картины кисти этого замечательного мастера. Другой красавице, знатной миланской даме Лукреции Кривелли, во что бы то ни стало требовалось заказать свой портрет Леонардо, и он, только докончив писать лицо Франкино Гаффурио и не завершив портрета, должен был отправиться работать в палаццо Лукреции Кривелли.
Новый портрет увлек художника. В лице Лукреции он уловил простодушие здоровой молодой женщины, не успевшей еще испортиться в кругу придворных дам и кавалеров. Она не была признанной красавицей, как Цецилия. Художник подчеркнул в своем изображении непосредственность молодой женщины, ее жизнерадостность, отсутствие в ней надлома, который чувствовался в фаворитке герцога.
* * *
Цецилия Галлерани была восхищена своим портретом. Она мечтала окружить себя произведениями Леонардо. Ей хотелось иметь мадонну с младенцем его кисти. Может быть, втайне она лелеяла мысль, что моделью для богоматери послужит она, красавица, любимая герцогом…
И Леонардо написал «Мадонну Литта», находящуюся ныне в числе художественных сокровищ Эрмитажа, в Ленинграде. В ней отображена тема материнства, как некогда в «Мадонне с цветком». Мать кормит грудью пышащего здоровьем кудрявого младенца и радостно смотрит на него. Четко вырисовывается фигура Марии на темном фоне стены с двумя окнами.
* * *
Но живопись не погасила в Леонардо страстного стремления к раскрытию тайн природы, которое он познал, еще будучи учеником покойного Тосканелли. Он занимался теперь анатомией с молодым, но уже известным павийским врачом Маркантонио делла Торре. Обыкновенно Маркантонио резал труп, а Леонардо рисовал пером и сангиной[30]мускулы и кости.
У него набралась целая папка замечательных анатомических рисунков, где он сопоставляет в общих чертах сходных животных, впервые в истории науки намечая начала сравнительной анатомии.
«Опиши внутренности у человека, обезьяны, — говорил он, — и подобных им животных, смотри за тем, какой вид они принимают у львиной породы, затем у рогатого скота и наконец у птиц».
* * *
С улыбкой смотрел великий мыслитель на усилия мессэра Амброджо да Розате, придворного звездочета Моро, пытавшегося по созвездиям объяснить Лодовико судьбу дома Сфорца.
Мессэр Амброджо жил в одной из высоких четырехугольных замковых башен, окруженный астрономическими приборами, создававшими ему ореол таинственности и обеспечивавшими особенный почет при герцогском дворе.
Как-то раз Леонардо забрался на башню Амброджо и застал там обоих Сфорца. Лицо Лодовика было мрачно, как всегда, когда он появлялся в таинственном жилище астролога[31]. Джан-Галеаццо, бледный и трепещущий от страха, жадно следил глазами за неподвижной фигурой Амброджо, смотревшего на небо через бойницу башни. По словам астролога, знаки созвездий соединились, предвещая что-то недоброе, и Леонардо в этот день как-то особенно было жалко бесхарактерного и запуганного правителем-дядей юношу.
Амброджо хмурился и отрывисто изрекал недосказанные, непонятные, но страшные предсказания. Лодовико стал темнее тучи. Он глухим голосом спросил:
— Что ты на это скажешь, Леонардо?
Художник спокойно, с оттенком насмешки отозвался:
— Если бы все это было истиной, то тайная наука мессэра Амброджо давала бы человеку огромную силу.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил опять Моро.
А племянник его с тоскою и надеждою вскинул глаза на художника.
— Я могу пояснить свою мысль: если бы все это было истиной, то человек мог бы вызывать гром, повелевать ветрами, в одно мгновение уничтожать армии и крепости, открывать все сокровища, скрытые в недрах земли, мог бы моментально перелететь с востока на запад, — словом, для человека не было бы ничего невозможного, за исключением, может быть, избавления от смерти, — прибавил он, засмеявшись.
Джан-Галеаццо посмотрел на художника благодарным взглядом.
— Астрология и волшебство вздор! — продолжал Леонардо, точно говоря сам с собою. — И я это утверждаю, ваша светлость, потому что вы от меня требовали правдивого ответа. Искатели философского камня[32], открывающего тайны природы! К чему вы морочите бедных доверчивых людей? — И добавил с той же иронией: — И хотел бы я знать, ваша светлость, так ли уж обрадовались бы властители государств и богачи, если бы алхимикам удалась их затея. Не думаете ли вы, что тогда возликовали бы бедняки? Их богатством, и богатством надежным, не разрушимым, был бы их труд, их сильные и умелые руки. А что останется у богача, когда его золото перестанет цениться?
На Лодовико глядели светлые глаза художника с обычным холодным спокойствием.
Амброджо смотрел настороженно и молчал.
Леонардо говорил об алхимиках, которые в ослеплении посвящали всю жизнь отысканию таинственного философского камня и жизненного эликсира, способного дать человеку бессмертие; вслепую бились над непонятными им химическими соединениями, стараясь добыть настоящее золото. Но, несмотря на всю неосновательность утверждений алхимиков, Леонардо предвидел возможность появления впоследствии — из опытов и попыток алхимиков — великой точной науки — химии.
Поздно простился Леонардо с герцогами и Амброджо.
— Мне необходимо поговорить с тобою по поводу одного предполагаемого мною праздника, — сказал ему на прощание Моро.
— Я хотел бы попросить вашу светлость позволить мне заняться сегодня моею летательной машиной, о которой я имел честь доложить.