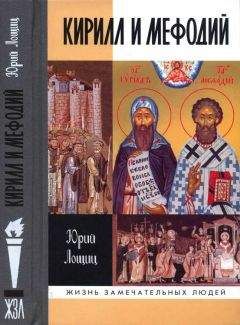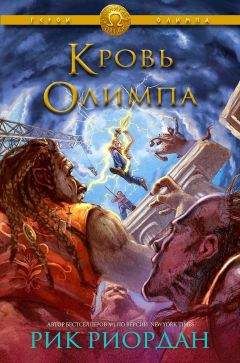…Как отнеслись к непростому житийному эпизоду исследователи, предпочитающие иным подходам гиперкритическое сомнение во всём? Наиболее категоричен автор, считающий, что прение с иконоборцем «в настоящее время вызывает единодушные сомнения всех исследователей». Но где уж всех? А тот же Поленакович? А болгары В. Киселков и Э. Георгиев? А словенец Ф. Гревс? А грек Антоний Тахиаос? Можно привести имена и других учёных, которые не поддаются гиперкритической моде. Но что же именно вызывает сомнения в достоверности этого житийного эпизода?
Как известно, в VIII–IX веках в Византии неоднократно проходили публичные споры между защитниками и противниками иконописания, распространялись полемические трактаты таких видных иконопочитателей, как Иоанн Дамаскин, Феодор Студит, патриархи Никифор и Фотий.
Читатель, уже знакомый с главным в таких случаях доводом гиперкритиков, и здесь не ошибётся: если были под рукой у авторов жития сочинения таких маститых полемистов, то, значит, они и здесь, по закоренелой своей привычке, не упустили случая воспользоваться чужим, выдать его за своё. Так, мол, и появилось в жизнеописании Константина-Кирилла ещё одно событие, которого на самом деле никогда не было.
Предлагают и более «мягкий» способ усомниться в достоверности прений. Якобы сюжет поступил в житие не из чужих источников, а из бумаг самого Философа, оставшихся после его смерти. Тот будто бы написал некое школьное сочинение, что-то вроде пробы пера на свободную богословскую тему: состязание с вымышленным иконоборцем в форме диалога. Оставалось лишь «обогатить» это сочинение в житии именем опального патриарха и выдать его за состоявшуюся беседу.
Впрочем, и в такой «мягкой» версии агиографы выглядят не меньшими плутами, чем в предыдущей. И как это они позабыли, что среди возможных византийских читателей жития немало могло найтись тех, кто хорошо помнил пресловутого Анния? А значит, без труда мог бы уличить увлёкшихся имитаторов в подлоге.
Вот как далеко может завести страсть сомневаться во всём подряд! Ведь в последнем случае, как и в предыдущих, в этих агиографических подделках обвиняются ближайшие ученики Кирилла, в кругу которых родилось его житие. А с ними заодно и старший брат Философа.
ФИЛОСОФ НА РУИНАХ ВАВИЛОНА
Костры в ночи
Житель Константинополя по многу раз на дню небрежно, а то и совершенно бездумно поглядывает на противоположный берег Босфора. И вовсе не вспоминает при этом, что там — Азия, а он — в Европе. Или мало у него иных забот? Эта самая Азия так буднично близка, что нужно слегка встряхнуться, чтобы снова воспринять её как другую часть света. И если кто при нём начнёт вслух разглагольствовать о том удивительном чувстве, которое обязан испытывать человек, сподобившийся видеть сразу два континента, то столичный обыватель с ухмылкой обойдёт велеречивого вещателя стороной. Ишь, невидаль какая! Ну, Европа, ну, Азия, а что дальше-то? Ведь и там, и здесь — всё та же Византия. Ну, поплыви туда на пароме, поглазей оттуда на Европу, — велика ли разница? Может, вся разница лишь в том, что когда окажешься за проливом и когда ветер донесёт туда всплески ликования с царьградского ипподрома, то станет тебе на малоазийском берегу как-то скучно и одиноко.
Для кого столица — это Великая София, для кого — цесарские дворцы, базары. А для кого — ипподром. Вот она, в самой серёдке города, взбухает песком и пылью великолепная лошадиная дорога, и с нею десятки тысяч горожан связаны лучшими переживаниями своей жизни. Пестреющие зрителями трибуны, имена и символы знаменитых колесниц, упругий, ласковый ветерок от Пропонтиды, пронизанный ароматами вина, мяса, шкворчащего на решётках, — как это всё бодрит, располагает к дурашливой беспечности! А всегдашние словесные потасовки между могущественными партиями болельщиков? Что за роскошь! Особенно когда перебранки то и дело переходят в самые настоящие рукопашные бои! И ни с чем не сравнимое тепло разливающейся в груди радости, когда по рядам пронесётся: «Пришёл!..» Значит, сам молоденький император, прошествовав прямиком из дворца по прохладной и короткой улице-галерее, уже восседает на своей парчовой тронной подушке и вот-вот благословит начало состязаний.
Пусть кто-то подшучивает над особым пристрастием отрока-василевса к лошадям, пусть упрекают его за то, что отстроил для своих любимых жеребчиков и кобылок конюшню из мрамора с водотоком, — пусть их! А вот завсегдатаям ипподрома приятно, что венценосный мальчик не чурается всегдашней простонародной забавы и даже сам иногда, нарядившись возничим, взбирается на колесницу. Уж в такой миг лучше к нему ни с чем худым не подступайся — ни с вестью о землетрясении, ни с донесением об очередном воинском копошении, затеянном болгарами. Пошли вы отсюда со своей Европой, со своей Азией!
Но когда среди ночи увидит горожанин за Босфором острый язык костра на безлесной макушке горы, тогда лишь, пожалуй, и вспомнит, что на том берегу — она, Азия. Потому что костёр этот одно-единственное означает: по огненной цепочке таких же великих костров — через весь громадный полуостров — от киликийской пограничной крепости Лул проскакал с горы на гору огненный сигнал нешуточной войны. Значит, опять сарацины нарушили перемирие.
И тут впору снова ворчать, сокрушаться, горестно вздыхать, а то и клясть про себя последними словами, — да-да! не кого-нибудь, а величайшего из императоров, имя которого носит столица. Это ведь его угораздило перенести свой трон в самый зыбкий и тряский, в самый неспокойный угол мира. Не понятно ли, какая гордыня ему тогда подсказки подсказывала? Где ещё, как не здесь, виднее всего будет его власть одновременно и над Западом, и над Востоком?
Сколько уже поколений ромеев расплачивается за ту гордыню! Зависть свежих народов, затопившая когда-то Рим, почти одновременно обрушилась и на град Константинов. Даже книжники, составители хронографов, пожалуй, затруднятся назвать точное число покушений — столь много их накопилось — на рубежи Византии и на её столицу.
Впрочем, те, кто заглядывает и в более древние книги, подскажут: так было испокон веку — ещё от времён, когда появились первые греческие, а затем и римские города. То Восток напирал на Запад, то средиземноморский Запад оттеснял народы и царства Востока. Будто главный или даже единственный смысл обозримой истории состоял как раз в этом — непонятно для чего нужном Богу — соперничестве, в котором участвовали с той и другой стороны великие полководцы, цари, императоры, сатрапы, храбрецы и маньяки, сумасброды-мечтатели и мелкие хищники, не говоря уж о миллионах пеших и конных воинов, со дня рождения обречённых на бесславие и безымянность.