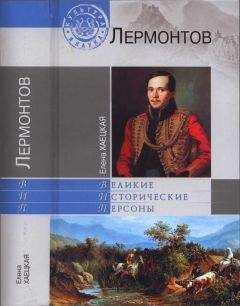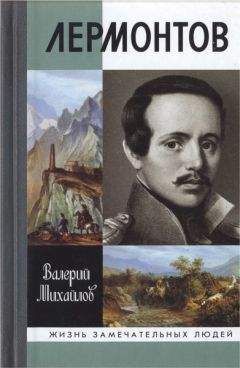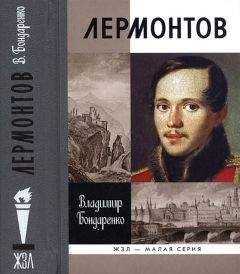Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда вы могли почерпнуть эти знания?
— Это правда, г. профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастеву, читавшему геральдику и нумизматику.
Дерзкими выходками этими профессора обиделись и постарались срезать Лермонтова на публичных экзаменах».
Впрочем, другие студенты вели себя не лучше. К. С. Аксаков рассказывал, как один студент принес на лекцию Победоносцева воробья и выпустил птицу. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить его. Другой раз, когда Победоносцев, который читал лекции по вечерам, должен был прийти в аудиторию, студенты закутались в шинели, забились по углам аудитории, слабо освещаемой лампой, и, как только показался Победоносцев, грянули: «Се жених грядет в полунощи».
«Обычный шум в аудитории прекращался и водворялась глубочайшая тишина. Преподаватель, обрадованный необыкновенным безмолвием, громко начинал читать, но тишина эта была самая коварная, — раздавался тихий, мелодический свист, обыкновенно мазурка… профессор останавливался в недоумении. Музыка умолкала, и за нею следовал взрыв рукоплесканий и неистовый топот», — вспоминал Аксаков.
Иногда целая аудитория в сто человек по какому-нибудь пустому поводу поднимала общий крик. Вот кто-то вошел в калошах. «Долой калоши!» — кричат все, вошедший поспешно скидывает калоши…
«Странное дело, — заключает Аксаков, — профессора преподавали плохо, студенты не учились… но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, и все-таки много вынесли они из университета»…
Те же мысли высказывал и Лермонтов, общий нелюбимец, высокомерный угрюмец:
Святое место!.. Помню я, как сон,
Твои кафедры, залы, коридоры.
Твоих сынов заносчивые споры
О Боге, о вселенной и о том,
Как пить: с водой иль просто голый ром, —
Их гордый вид пред гордыми властями,
Их сертуки, висящие клочками.
Бывало, только восемь бьет часов,
По мостовой валит народ ученый.
Кто ночь провел с лампадой средь трудов,
Кто — в грязной луже, Вакхом упоенный;
Но все равно задумчивы, без слов
Текут… Пришли, шумят… Профессор длинный
Напрасно ходит, кланяется чинно.
Он книгу взял, раскрыл, прочел, — шумят;
Уходит — втрое хуже…
Сентябрь 1830 года оказался волнительным не только в связи с поступлением Лермонтова в университет. «Чума» добралась и до Москвы. Сушкова пишет: «В конце сентября холера еще более свирепствовала в Москве; тут окончательно ее приняли за чуму или общее отравление; страх овладел всеми; балы, увеселения прекратились, половина города была в трауре, лица вытянулись, все были в ожидании горя или смерти, Лермонтов от этой тревоги вовсе не похорошел.
Отец мой, — продолжает Екатерина Александровна, — прискакал за мною, чтобы увезти меня из зачумленного города в Петербург. Более всего мне было грустно расставаться с Сашенькой…
Не успела я зайти к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что было поводом к следующим стихам:
Свершилось! Полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут — зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! Голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать… вспоминать!»
Екатерина Сушкова уехала в Петербург. Лермонтов с бабушкой остались в Москве, оцепленной военными кордонами, в связи с распространившейся в городе эпидемией холеры.
Болезнь шла «капризными скачками» — то останавливаясь, то внезапно «разыгрываясь» на новом месте. Казалось поначалу, что она обойдет Москву стороной. Помещики из соседних деревень спешили в столицу в поисках убежища или, может быть, надеясь оказаться поближе к квалифицированной медицинской помощи. И тут внезапно разнеслась страшная весть: холера — в Москве! Утром студент политического отделения почувствовал себя на лекции дурно — и на другой день он умер. Заболели и другие. Университет закрыли. Студенты всех отделений собрались на большом университетском дворе. Казеннокоштных отделили карантинными мерами, осудив на безотлучное пребывание в казенном здании; своекоштные отправились по домам. Вернулся к бабушке и Лермонтов. По городу ходили мрачные слухи. Холера проявлялась так жестоко, люди умирали так быстро и таком количестве, что многие называли ее «чумой». В холерное время Москва приняла необычный вид. «Эти печальные месяцы имели что-то торжественное. Явилась публичность жизни, неизвестная в обыкновенное время»… А. И. Герцен описывает Москву так: «Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, двигались шагом, сопровождаемые полицейскими. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали, а тут — весть за вестью, что тот-то занемог, что такой-то умер…
Митрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы; испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов. Самые священники были серьезны и тронуты…
Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза…
Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц; они не стоили правительству ни копейки, — все было сделано на пожертвованные деньги… Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse привели себя в распоряжение холерного комитета… Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах… и все это — без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы».