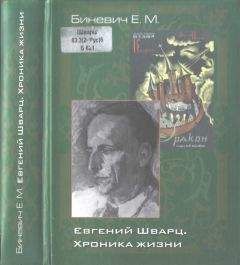Мы издавали серию книжек — картинок для малышей, подписи к картинкам чаще всех писал Евгений Шварц. По своей беспечности, он обычно был в состоянии полного безденежья. Подписи под картинками оплачивались или аккордно, без последующей оплаты за переиздание и сравнительно небольшой суммой, или же по договору в три срока с последующей оплатой переизданий — в этом случае гонорар был гораздо больше. Каждый раз я пыталась склонить Евгения Львовича к подписанию договора, но он шутливо отмахивался: «Зачем мне журавль в небе, деньги на бочку!»
Ругая его, я выписывала аккордную оплату, и он, насвистывая, бежал в кассу. А подписи делал всегда с полным напряжением творческих сил, остроумно и талантливо.
Талантлив он был во всем, в любой мелочи, даже когда ему нужно было «стрельнуть» папиросу. Они всегда водились у сурового корректора со странной фамилией Фените;
Шварц подходил к нему с застенчивым видом и говорил таинственным голосом:
Товарищ Фените,
Пожалуйста извините
За нескромный вопрос:
Нет ли у вас папирос?
Фените сердился, но папиросу давал.
Талантливых людей я в те годы повстречала очень много, Маршак неутомимо собирал их вокруг себя и буквально заставлял их писать для детей. Там я узнала и поэта Заболоцкого, с которым и тогда, и всю последующую жизнь очень дружил Евгений Львович. Заболоцкий в те годы был близок с группой поэтов, называвших себя обереутами. Я с недоумением слушала программные высказывания этих молодых, явно оригинальничающих поэтов, у одного из которых в комнате висел большой лозунг: «Мы не сапоги». Ярко талантливая книга стихов Заболоцкого «Столбцы», конечно, носила в себе следы формалистических влияний, но была гораздо значительнее того, что писали обереуты. Да и склонности к оригинальничанью у Заболоцкого не было, и отношение к поэзии у него было гораздо серьезнее и глубже, в чем мне довелось убедиться. В то время около Дома книги, на углу Невского и канала Грибоедова, открылась так называемая «культурная пивная» — там было чисто, тихо, пьяные не допускались, кормили вкусно и довольно дешево. Мы часто там обедали. Однажды Шварц увлек туда после работы Заболоцкого и меня. Закусив, он сразу куда‑то заторопился (в те дни он постоянно куда‑то торопился с возбужденным и виноватым видом), а нам сказал: «Счастливо беседовать». Беседа оказалась действительно счастливой. Мы часа два сидели за столиком в полупустом зале, и Заболоцкий говорил о сокровенной сути литературного творчества, о том, что этот труд требует человека целиком, без остатка, и все побочное должно отбрасываться, в частности — жажда успеха и денег, что легкой жизни у писателя быть не может. Этот разговор был одним из поворотных в моей судьбе. На следующий день Евгений Львович спросил меня:
— Ну как?
И засиял, когда я ему не очень внятно, но восторженно высказала свое впечатление от разговора. Он очень любил Заболоцкого и со свойственной ему щедростью души хотел, чтобы Заболоцкого поняли и оценили окружающие.
Как ни странно это теперь звучит, моим секретарем работал… Ираклий Андроников, только что кончивший Ленинградский университет. Его яркая одаренность сказывалась уже и тогда — он блестяще имитировал речь и повадки наших авторов, разыгрывал перед нами целые сцены, а после работы устраивал своеобразные концерты: предлагал нам прослушать какую‑либо симфонию и тут же выпевал ее, помогая голосу ударами стеклянной вставочки по чернильницам, пресс — папье, стеклу стола, а крышкой чернильницы изображая ударные инструменты. Делалось это так музыкально, что мы, честное слово, слышали симфонию! Когда в редакцию приходили наиболее почтенные авторы— Николай Тихонов, Алексей Толстой, Ольга Форш, Юрий Тынянов, — Ираклий неслышно входил в мой «кабинет», отгороженный двумя шкафами в углу общей редакционной комнаты; согнув спину дугой, он подавал мне договор или какую‑либо бумагу:
— Милостивая государыня, подпишите — с.
В иных случаях он изображал заносчивого гордеца и заявлял, что он грузинский князь и не может подшивать бумаги.
В пору осенних дождей наш маленький коллектив заметил, что у меня нет никаких галош (а с резиновой обувью тогда было плохо). Ираклий предложил поехать со мною в воскресенье на толкучку покупать резиновые боты. Я впервые была на толкучке, Ираклий тоже. Нас оглушили выкрики продавцов, ошеломили толкотня, пестрый набор самых неожиданных предметов, продававшихся на лотках и прямо с рук, удивительные типы каких‑то бывших людей, которых мы определили термином «осколки разбитого вдребезги». Бдительно охраняя меня от снующих воришек, Ираклий одновременно тормошил меня: «Нет, вы посмотрите сюда!», «Глядите, это определенно бывшая бандерша!» и т. п. Затем нас прельстили уличные певцы, окруженные толпами зевак. Мы слушали их песни и частушки, в которых так своеобразно преломлялись особенности времени, скупали тексты, напечатанные тусклым шрифтом на узких полосках папиросной бумаги… Про резиновые боты мы забыли оба.
Беда разразилась неожиданно. В тот год шла чистка советского аппарата, комиссия заседала во втором этаже Дома книги, куда по очереди вызывали сотрудников. Работники нашей редакции проходили чистку благополучно, и у меня не было никаких оснований волноваться. Я училась тогда на курсах философии, созданных для редакторов ОГИЗа, и в дни занятий покидала редакцию на час раньше. Однажды, спеша на курсы, я предупредила товарищей, что с утра буду на «большом редсовете» — был такой громоздкий совет при директоре ОГИЗа. Отзанимавшись, вернулась домой часов в десять вечера. Жила я тогда на Троицкой, недалеко от Невского, в старом флигеле, куда надо было добираться через два проходных двора. Флигель глядел окнами на церквушку и в свое время был поповским подворьем. Комнаты, каждая с маленькой кухонькой и чуланом, выходили в длиннющий сумрачный коридор. В некоторых комнатах еще жили бывшие попы и попадьи, переквалифицировавшиеся в ночных сторожей и торговцев. В коридоре на полу часто ночевал обросший неряшливой бородой, крайне опустившийся и всегда подвыпивший бывший монах, к тому же нечистый на руку. Его гнали дворники, гнала милиция, он на некоторое время исчезал, а потом снова оказывался в коридоре. И тут надо было уже держать ухо востро и запираться.
Войдя в наш полутемный коридор, я с удивлением увидела Евгения Шварца. Он стоял недалеко от моей двери и рассматривал спящего монаха.
— Женечка, вы?!
Он бросился ко мне навстречу, я сразу увидела, что он взволнован. Вошли в комнату. Шварц никак не мог расстегнуть пальто, его пальцы тряслись больше обычного.