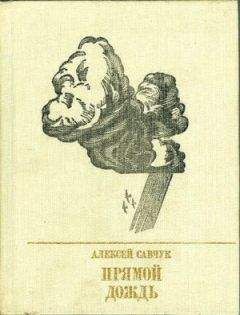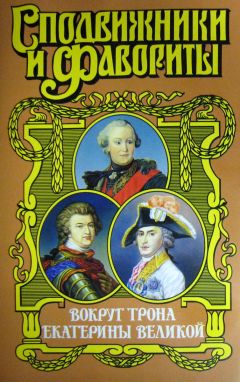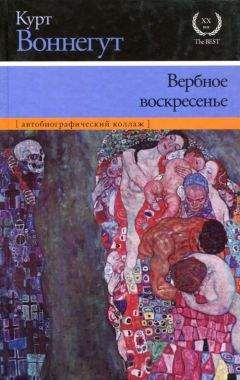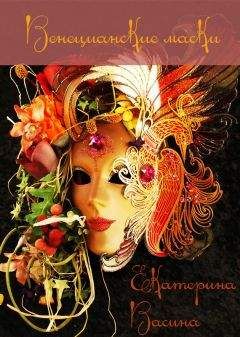Доменика идет, озаренная горячим августовским солнцем. Ее красота кажется особенно яркой среди черной угольной пыли и наваленного вокруг мусора.
— Может, вам помочь, сударыня? — Карп нарочно обращается к ней так, как пристав к жене начальника шахты.
— Что ж, пожалуйста…
— Жаль, что я на посту… Мне тут… — И вдруг осекся. «Чуть не сболтнул, дурень», — рассердился он на себя.
— Понимаю. Значит, на секретном посту.
— Какой там секрет, — сказал Карп и взял у Доменики корзину. Она показалась ему довольно тяжелой. — Что тут?
— Тяжело? — спросила Доменика, игриво улыбаясь.
— Что вы! — возразил городовой. — Я еще не такое носил! Бывало, пьяного взвалю на плечи, и то ничего. Я сильный.
— Гостинцы несем крестной.
— Я готов всегда носить ваши гостинцы, но…
— Я не против. — И снова улыбнулась.
— На службе я сейчас, еще, не дай бог, пристав нагрянет… В другой раз всей душой, а теперь прощевайте, — сказал он и отдал Доменике корзину.
Потом приставил руку к козырьку, браво повернулся и, лихо крутнув ус, смачно крякнул.
У Доменики отлегло от сердца. Она, несмотря на тяжелую ношу, прибавила шагу. От нервного напряжения и увесистой поклажи чувствовала себя совершенно разбитой. Скорей бы дойти! Теперь уже близко. Нужно только обогнуть балку, и там на взгорке знакомое подворье. Из-под самых ног неожиданно взметнулась птица, и Доменика испугалась больше, чем при встрече с городовым.
Над домом Чуприны беспорядочно вились голуби — их неровное кружение над голубятней было необычно, а тревожное воркование напоминало стон.
И тут Доменика заметила, что во дворе горного мастера хозяйничают жандармы, а жена хозяина обливается слезами. Полицейский с остервенением сбрасывает с голубятни газеты, брошюры, среди которых и те, что приносила она Григорию со станции. Они разлетаются по двору вместе с голубиным пухом и перьями, а надо всем этим разором мечутся растревоженные птицы.
Доменика поняла, что ей надо бежать. Схватила Петрика за руку и, минуя балку, поспешила огородами домой. А там упала на кровать и разрыдалась. Дети испуганно жались к плачущей матери…
Через несколько дней измученная женщина опять пошла в полицейский участок справиться о Григории.
— Государственный преступник, — как всегда, ответили Доменике, — сидит, где нужно.
Начальник секретной службы в «черном списке» против фамилии Петровского написал: «Читал шахтерам дозволенные и недозволенные книги, призывал к неповиновению». Заклеил пакет, скрепил сургучом и отправил прокурору Харьковской судебной палаты, ведущей следствие по делу Екатеринославского комитета РСДРП. Суд приговорил Петровского к шестимесячному тюремному заключению.
Доменика купила большую корзину, сложила туда книжки, прикрыла их сверху детскими рубашечками и отравилась на станцию, чтобы на время уехать к матери в Екатеринослав.
А Григорий оказался в луганской тюрьме.
Выходя на краткие прогулки, он вскоре нашел единомышленников среди тех, кто недавно попал сюда с воли. Идут узники цепочкой по узкому тюремному двору, переглядываются, друг другу какие-то знаки делают, а на другой день — шнурок на ботинке у кого-нибудь развяжется, он наклонится завязать, а пока подойдет надзиратель, другой заключенный ему несколько слов шепнет. Так по цепочке и передают новости. Освоили заключенные и азбуку декабристов, начали перестукиваться. Таким образом узнал Григорий о II съезде РСДРП, который открылся в Брюсселе, а закончился в Лондоне, о расколе партии на большевиков и меньшевиков. Не колеблясь, стал на сторону большевиков, на сторону Ленина. Удалось узнать, что член Екатеринославского комитета РСДРП Михаил Григорьевич Цхакая после ареста, екатеринославской тюрьмы и долгих мытарств выслан на родину и продолжает свою революционную работу как большевик.
Только накануне нового, 1904 года Петровский оказался на свободе. Попытки найти постоянную работу не имели успеха ни в Луганске, ни в Алчевске, ни на французских рудниках в Юзовке… Он вынужден был перебиваться случайными заработками.
Снова путь лежал в город юности — Екатеринослав…
1
Пускай бы и вовсе не начинался этот страшный 1904-й: тяжелым ярмом лег он на плечи народа — началась русско-японская война. Почти из каждого дома ушел на войну кормилец. Великий плач стоял на необозримых просторах николаевской державы.
Правительство было уверено, что русские солдата мгновенно победят японцев и, вернувшись, станут складывать легенды о своем царе-батюшке. «Крамольники» же и все, кто выступал до войны против царя, останутся в дураках.
Министр внутренних дел и шеф жандармов Плеве заявлял военному министру Куропаткину:
— Вы, Алексей Николаевич, не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война.
Генералы тоже не сомневались в победе над Японией. Между ними то и дело возникали споры, порой смешные и наивные.
— Чтобы победить, достаточно выставить против двух самураев лишь одного русского солдата! — уверенно восклицал бывший военный министр Банковский.
— Одного мало — против двух японцев нужно полтора россиянина! — возражал ему Куропаткин.
Услышав про войну, Петровский прежде всего подумал о Степане Непийводе и его семье. «Надо немедленно сходить к старикам», — решил Григорий.
Встретился со Степаном, договорились, как помягче рассказать о событиях его родителям. Возле хаты столкнулись с его кумой, о которой ходила молва, что она все знает еще до того, как оно случится. Кума так стремительно вылетела из хаты, что Степан успел лишь спросить:
— Сказали про войну?
— Некогда мне разводить тары-бары, не ты один на свете. Побежала!
Григорий и Степан, невольно оттягивая трудный разговор, долго в сенцах отряхивали снег, веником обметали сапоги. То, что они увидели в горнице, очень напоминало «немую сцену» на театральных подмостках.
Иван Макарович, желая хоть чем-нибудь помочь семье, наловчился виртуозно плести из прутьев корзины. Как ошарашила его кума убийственной новостью про войну, так и застыла его рука с поднятым вверх ивовым прутом.
Катерину Семеновну новость застала во время мытья посуды: склонив голову, опустив руки в миску с водой, она словно окаменела.
— Что же теперь будет? — вместо ответа на «здравствуйте», спросил Иван Макарович, глядя на Григория большими печальными глазами.
— Будет то, что бывает во время войны, — спокойно ответил Григорий. — Но рабочий класс окрепнет и возмужает. И мы со Степаном раздуем такой красный пожар в Екатеринославе, что и в Петербурге светло станет!