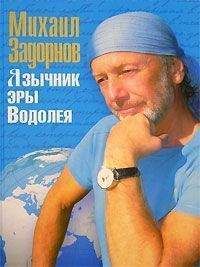7. Если бы мной руководило намерение причинить зло журналу и Вам, Геннадий Иванович, лично, я бы поддержал намерение напечатать "Вольный проезд". Но и Вам, и своим коллегам по редакции я предпочитаю говорить резкие и неприятные вещи, исходя из добрых чувств, желая предотвратить в лучшем случае необдуманное, в худшем же — злое дело, противоречащее духу перестройки, как я ее понимаю.
8. Если Вы все-таки решите, что "Вольный проезд" должен быть напечатан, то я считаю, что при этом следовало бы проконсультироваться по этому вопросу со специалистами по творчеству Марины Цветаевой (например, А.А.Саакянц) и обсудить намерение редакции с членами редколлегии журнала, поставив их в известность и об этом письме, которое носит, как Вы понимаете, отнюдь не частный характер.
Член редколлегии,
заведующий отделом прозы Юрий Герт"
36— Ты правильно представляешь дело, сказал Толмачев, пробежав два моих листочка. — Пускай решает редколлегия.
— И на этом — точка, — сказал я. — Свое мнение я выразил, остальное не от меня зависит.
Выйдя из кабинета главного редактора, я и вправду испытывал облегчение, уверенный, что точка в самом деле поставлена. Я сделал, что мог, и упрекать себя мне не в чем.
37
Сейчас, перечитывая свое письмо, адресованное Толмачеву два года назад, я, в сущности, готов был бы подписаться сызнова почти под любым его словом. Два вопроса, в нем поставленные, кажутся мне узловыми. Первый обозначен в самом начале, там сказано: "антиреволюционный, антисоветский настрой". Злость, досада, ощущение банкротства владеет нами, требует найти причину долговременных наших бедствий и во всем, винит Октябрьскую революцию. Ругать революцию, поносить Ленина, большевиков сделалось модой, своего рода бонтоном. Однако если недавние молитвы сменяются, площадной бранью, она, эта площадная брань, представляется мне зародышем новых молитв. И в самом деле: было бы желание согнуться, хлопнуться на колени, хряснуть об пол привычным к тому лбом — а уж кумиры, идолы всегда появятся. Не новые, так старые; царь-батюшка (кстати, отрекшийся от престола без всякой помощи Ленина и большевиков), великодержавность, триединая формула Уварова, истинные спасители Отечества — Корнилов, Краснов, Колчак. И смешанные с молитвами проклятия Октябрю, сочиненному Лениным и шайкой заговорщиков-экстремистов, узурпировавших власть в процветающей, торжественно шествующей впереди человечества России, полной мира и согласия... Не думаю, что монархизм, неприятие Октября Мариной Цветаевой дают основание уподобить ее какому-нибудь унтер-офицеру-корниловцу, готовому положить (а может быть — и положившему!) голову за вполне реального (хотя - вполне ли реального?..) государя-императора... Политика, этика, поэзия — все в ней причудливо соединялось, и чего было больше?.. Ее влек Наполеон. И герцог Рейхштадтский — "Орленок", сын Наполеона, воспетый Эдмондом Ростаном. Их портреты висели над ее девической постелью,.. Каким рисовался ей Николай II, какого покроя носил одежды, какие слова (скорее — стихи!,,) слышались ей излетевшими из его уст?.. Пошлость всегда ее страшила, обязательное для всех — склоняло к бунту. В начале первой мировой войны, в ура-патриотическом угаре, охватившем Россию (да только ли ее?..), она дерзко, вызывающе бросает:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю,
Ну как же я тебя предам?
И где возьму благоразумье:
"За око — око, кровь — за кровь", —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!
О какой Германии она писала, кто был ей мил — Людендорф, кайзер Вильгельм, Крупп, германский милитаризм?.. Да нет же — Кант и Гете, Гейне и Лорелея... Можно ли, по законам военного времени, судить ее за предательство, измену, переход на сторону врага ("Германия — моя любовь!..")?.. Законы поэзии не совпадают с положениями уголовного кодекса. Монархизм, антиреволюционность Марины Цветаевой требуют понимания, расшифровки. Без этого в коричневом тумане, энергично, с ведома высоких покровителей распространяемом "Памятью", можно перепутать "Современник" Некрасова и "Наш современник" Викулова, как и Марину Цветаеву с какой-нибудь Глушковой...
Мне странно было тогда, два года назад, почему столь простые мысли не приходят в голову самому Толмачеву? И почему я, никогда не бывший членом партии, неоднократно порицаемый не столько изустно, сколько печатно за "идеологические ошибки", "идейные пороки", "огульное охаивание" и "отсутствие положительного идеала" (было даже специальное постановление ЦК КП Казахстана, в котором, среди "порочных", фигурировало и мое имя — рядом с именем Анатолия Ананьева...), — почему я, выходит, защищаю Октябрьскую революцию, я — а не Толмачев?.. Ведь это он носит партийный билет с профилем Ленина, он с младых ногтей — доверенное лицо этой партии, то главный редактор издательства, то редактор газеты, член — то горкома, то обкома, то есть борец за чистоту партийной идеологии, еще недавно пресекавший самые малые отступления от нее, — отчего же вдруг наши роли вроде бы поменялись?.. Хотя ведь кто, как не он, руководит журналом, занимает редакторское кресло, которого мне никогда не занять, и кресло это, за которое он держится, напрягая все мышцы, предоставила ему та же партия, она усадила его за редакторский стол, занесла пожизненно в списки номенклатуры, она его выручит, не даст пропасть в любой ситуации, в крайности — пересадит с одного кресла на другое... Тут уж если не искренняя преданность, так хотя бы долг, порядочность велят служить, платить по таксе своему благодетелю...
Вот что было мне странно. И я — в своем письме — думал все еще раз расставить по своим местам, сделать явным, очевидным. И — антисемитские интонации: да нужно было заткнуть уши, залить их воском, чтобы не расслышать хорошо знакомые голоса...
Указывать на них редакции, Толмачеву?.. Тоже странность. И странность, далеко выходящая за пределы "еврейского вопроса". Ведь все мы были здесь, в Алма-Ате, в декабре 1986 года, то есть год назад, в памяти у каждого хранился еще не поблекший, не стершийся снимок тех событий...
38
Помню, утром 17 декабря я заглянул в больницу скорой помощи, к профессору Головачеву, моему "куратору" по медицинской части, и он, чрезвычайно встревоженный, рассказал мне: ночью состоялся городской партактив, ситуация сложная, возможны беспорядки, что же до больницы, то есть распоряжение — на всякий случаи готовиться к приему раненых...
Накануне было объявлено, что Кунаев отстранен от должности Первого, вместо него выбран прилетевший из Москвы Колбин, в прошлом секретарь обкома в Ульяновске, а до того — второй секретарь в Грузии, когда во главе ЦК там стоял Шеварнадзе... Говорили, "пересмена" произошла ночью, скоротечное заседание бюро длилось пятнадцать минут... Александр Лазаревич Жовтис, с которым мы встретились 16-го вечером в театре, задумчиво сказал: "Это может плохо кончиться..." Я не понял его. Ухода Кунаева ждали, считали предрешенным, огромный его портрет, с тремя звездами Героя, висел в центре города рядом с таким же огромным портретом Брежнева, для Казахстана оба олицетворяли эпоху застоя... Как же так? Почему — "плохо кончиться"?.. По пути из больницы в редакцию я думал об этом, сопоставляя прогноз Жовтиса, партактив, растерянность Головачева...