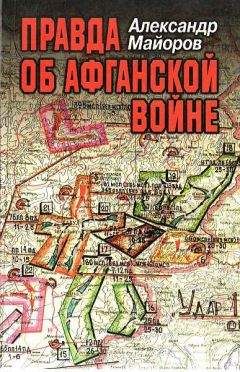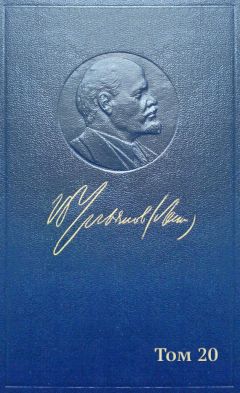— Прошу вас…
— Переводи дословно: если он, Бабрак Кармаль, не прекратит сегодня же пьянствовать, я немедленно доложу об этом Юрию Владимировичу Андропову, Дмитрию Федоровичу Устинову, и это дойдет и до Леонида Ильича. Переводи! И еще — но это уже для тебя — учти, что ты можешь отсюда вылететь и еще неизвестно, где приземлишься…
Бабрак все выслушал, потом помолчал, соображая что к чему, тяжело встав со стула, вплотную подошел ко мне, глаза его увлажнились.
— Шурави-шурави… Спасыбо, спасы-бо…
И снова объятия, тяжелые, тяжелые объятия, которые, однако, предвещали облегчение. Бабрак что-то сказал Осадчему. Тот перевел:
— Он спрашивает, что нужно делать. Он готов на все — ради Апрельской революции… Жизнь за нее отдаст… Все сделает, что рекомендуют ему товарищи Брежнев, Андропов, Устинов, Громыко…
— Переводи… Думаю, для начала ему надо завтра выступить по Кабульскому телевидению. Рассказать о положении дел в стране, об успехах вооруженной борьбы с душманами ради защиты революционных завоеваний. О дружбе с Советским Союзом и его армией. Товарищ Бабрак — опытный политик, революционер, глубокий теоретик, марксист-ленинец, он знает, о чем и как говорить своим соотечественникам.
Лицо Бабрака просветлело — кто не любит лесть?
— Второе и главное. Надо побывать в войсках, встретиться с командирами, вождями племен, губернаторами провинций. Предполагаем организовать такую встречу в районе Джелалабада. Обстановку там нормализуем. Дней через 7–8 туда можно было бы слетать. Согласен ли?
Но Бабрак, словно на автопилоте:
— Спа-сы-бо, пожалуй-ста, спа-сы-бо… — И что-то еще на своем языке…
А товарищ О. переводит:
— Он согласен со всем, что вами предложено. Все выполнит — в интересах защиты Апрельской революции и укрепления дружбы с Советским Союзом.
— У меня все, товарищ Генеральный Секретарь. Спасибо за встречу и деловой разговор.
Может быть, на этот раз показалось мне, а, может, и нет — портьера еще раз колыхнулась…
Мы с Бабраком обнялись на прощанье, и я ушел.
В жизни своей я не любил дураков, лодырей и пьяниц. А тут все эти качества сосредоточились в одном человеке. И этот человек — вождь партии и глава государства!
Из дворца я вышел опустошенным. Я понимал: произошло нечто из рук вон гадкое и пакостное. Но дело — сделано. А что дальше?
Чтобы встряхнуться я взял с собой Бруниниекса, Карпова и охрану и выехал на КП к Халилю — в 7-ю пехотную дивизию, которая вела бой в 40 километрах южнее Кабула, в предгорьях…
Мы провели там всю вторую половину дня. А перед возвращением в Кабул Халиль Ула, как бы между прочим сказал мне:
— Аллах велик! Он карает неверных, — и, помедлив, добавил: — и пьяниц.
А во время прощания он обронил:
— Бабрак, да простит его Аллах, погубит себя в вине.
Чувствовалось, что мой афганский боевой товарищ знает о слабости, если не болезни своего вождя и при этом проявляет ко мне доверительную откровенность.
На следующий день Владимиру Петровичу и Илмару Яновичу я в деталях рассказал про встречу с Бабраком.
— Напрасно тратим время на этого конька. Рано или поздно, хоть и на переправе, а придется его менять. Впустую тратим на него корм.
— Хватит злословить, Владимир Петрович. Нам надо его авторитет укреплять.
— Как пошатнувшийся забор.
Черемных уже тогда не верил в потенциальные возможности Бабрака, как вождя партии и главы государства.
— При всем при этом, Александр Михайлович, наши с вами действия и заключения по обстановке не всегда учитываются там, наверху…
Так, обмениваясь словами, обрывками мыслей, сидели мы и работали, сосредоточившись на изучении положения дел в районе Джелалабада. Ведь именно там решили мы провести совещание военно-политической верхушки, подобного которому не было за все время правления Бабрака. И мы с Владимиром Петровичем чувствовали особую ответственность. Предстояло слетать туда, разобраться в обстановке, обеспечить уверенную стабильность и безусловную безопасность.
Звонок «булавы». Я вошел в кабинет, взял трубку. Андропов!
После короткого моего доклада по оперативной обстановке, я услышал в трубке:
— Вы, Александр Михайлович, рассчитали все правильно. Центральный Комитет партии доволен. Дмитрий Федорович, хоть и болеет, но все знает и передает вам привет.
— Спасибо Юрий Владимирович, спасибо за оценку.
— К тому же вы оказались и психологом, — мягко продолжил Андропов.
Я понимал, что речь уже пошла об Анахите.
— Жизнь научила, Юрий Владимирович.
— Вы знаете, о ком идет речь?
— Догадываюсь…
— Она доверяет вам и вашей жене. Что касается поездки в Джелалабад, мы с Дмитрием Федоровичем одобряем это. Табеева в поездку не берите. Спольников необходимые указания получит. Звоните.
Я вышел из кабины, мои товарищи ожидали меня, навострив уши.
— Все в порядке. Все утверждено! Работаем дальше.
— Товарищ О. оперативно действует, — произнес Владимир Петрович.
Появился Самойленко и мы продолжили готовить Джелалабадское совещание, или, как принято говорить на штабном языке, — «мероприятие».
Это был, как говорится, гвоздь нашей программы на ближайшую неделю. Мы решили, что я с Бруниниексом (произведенным к годовщине Октября в генерал-майоры) в воскресенье вылетим в Джелалабад для организации мероприятия на месте. Меня там будет ждать Шкидченко. Черемных останется в Кабуле — координировать и, где надо, подправлять ход боевых действий во всех провинциях. Самойленко работает в Главпуре с Голь Ака и вместе с ним прилетает туда, в Джелалабад, осуществляет обмен информацией с посольством и ЦК НДПА.
Я особо просил Владимира Петровича — для отвлечения внимания душманов от Джелалабада — буквально во всех провинциях активизировать боевые действия. Особенно в центре, в районе Кабула, севернее, восточнее, южнее его. Просил на следующий же день доложить мне план его мероприятий и действий.
— Поставьте в известность и определите задачи и действия моим заместителям.
— Будет сделано, — как всегда определенно и коротко отчеканил Черемных.
Близилось обеденное время. И вдруг массивная дверь кабинета отворилась и — без предварительного звонка, предупреждения, тем более моего приглашения, буквально нагрянули в мой кабинет взволнованные Табеев и Спольников.
— Александр Михайлович, поздравляем! Какая победа! Поздравляем! С вас причитается!
Я не любил и сейчас не люблю в отношениях между людьми эдакое фамильярное, наигранное ребячество. А тут еще передо мной были два человека, к которым я не испытывал особой симпатии. Да и они ко мне не испытывали тоже особой симпатии. Но не мог же я попросить их в тот момент выйти вон…