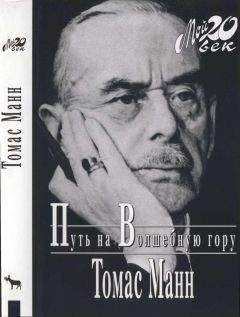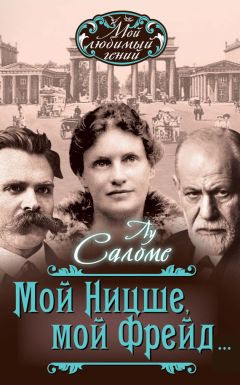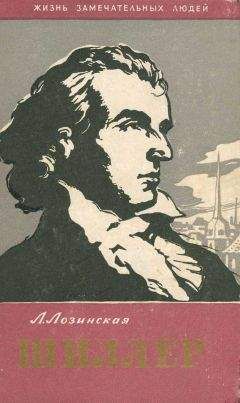«Мировая история — вечный переход от старого к новому. В постоянном круговороте вещей все саморазрушается, и созревший плод отрывается, освобождается от растения, которое его породило, но для того, чтобы этот круговорот не привел к быстрой гибели всего существующего вместе с истинным и хорошим, рядом с огромным, в конечном счете всегда превосходящим числом тех сил, что работают во имя нового, должно существовать небольшое количество тех сил, которые пытаются утверждать старое, и если не вовсе сдерживать поток времени, то по крайней мере направлять его в упорядоченное русло… Я ведь всегда был убежден в том, что, несмотря на мощь и величие моих соратников, несмотря на наши отдельные победы, дух времени в конце концов окажется сильнее нас, что пресса, как бы я ни презирал ее за все ее выходки, не потеряет своего чудовищного перевеса над всей нашей мудростью и что искусство так же мало, как и власть, намерено совать палки в колеса мировой истории. Однако во всем этом нет никаких оснований для того, чтобы перестать выполнять выпавший на мою долю долг со всей возможной стойкостью и верностью; только плохой солдат покидает знамя, если счастье начинает от этого знамени отворачиваться; и у меня хватит гордости, чтобы сказать самому себе в самые мрачные минуты: “Victrix causa Diis placuit sed victa Catoni”[59]».
«Дух» — это дух времени, дух нового, дух демократии, на который работает «всегда превосходящее число сил». Но документы, подобно вышеприведенному, свидетельствуют, что самыми духовными людьми оказываются как раз те, чья задача заключается в том, чтобы мешать «духу» — наверное, еще и потому, что для них дух «наинеобходимейшая вещь», его они обойти никак не могут.
Ирония и консерватизм — родственные настроения. Можно было бы сказать, что ирония — дух консерватизма, если бы у консерватизма мог быть дух, что вовсе не является таким же правилом, как в случае с прогрессом и радикализмом. У консерватизма может быть простая и сильная тенденция чувства, без насмешки и меланхолии, грубая, как frisch‑fromm‑froeliche[60] прогрессивность; тогда консерватизм — в порядке, тогда он яростно атакует противника, чтобы защититься от разложения. Насмешливым и меланхоличным он становится только тогда, когда к национальной четкости чувств прибавляется интернациональная четкость интеллекта; тогда, когда небольшая прививка демократии и литературы усложняет его природу. Ирония — форма интеллектуализма, иронический консерватизм — это интеллектуальный консерватизм. Его бытие и его действия до известной степени противоречат друг другу, и очень вероятно, что консерватизм способствует прогрессу как раз тем, каким образом он с ним борется.
То, что консерватизм зиждется на грубости и злобной глупости, — вера, которую прогресс исповедует тем яростнее, чем более он сам является бездуховно frisch‑fromm‑froeliche. Едва ли стоит стараться опровергать эту веру. Бюргер Якоб Бурхардт[61] не был ни глуп, ни зол, однако всем известны его сдержанные политические позиции, его аристократическое неприятие вторжения опьяняющего вольнодумства в церковь и ратушу старого Базеля, его непоколебимая верность оппозиции; верность небольшому, спокойному и гордому, консервативному меньшинству. При этом также хорошо известна его любовь к простому народу — что вообще свойственно многим консервативным политикам древности и современности. Гёте и Ницше были консервативны, да и вообще германский дух — консервативен, и таковым он и останется до тех пор, покуда останется самим собой и не демократизируется, то есть не отменит самого себя.
Страхов[62] в своем уже упоминавшемся вступлении к политическим статьям Достоевского пишет о том, почему Достоевский присоединился к славянофилам: «Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление, с положительной стороны — как консерватизм (…), с отрицательной — как реакция, то есть желание сбросить умственное и нравственное иго, налагаемое на нас Западом. Таким образом произошло то, что Федор Михайлович создал себе целый ряд взглядов и симпатий совершенно славянофильских и вступил с ними в литературу, сперва не замечая своего сродства с давно существующею литературною партиею, но потом прямо и открыто примкнул к ней». Однако главная причина того, из‑за чего Достоевский, долгое время действовавший как политик, не сразу примкнул к консервативной славянофильской партии, была его любовь к литературе, его писательство. «Вот причина, — пишет Страхов, — почему он не мог сразу сойтись со славянофилами. Он живо почувствовал ту враждебность, которую они искони, в силу своих принципов, питали к ходячей литературе»[63].
Вне всякого сомнения, есть определенная противоположность между консерватизмом и писательством, консерватизмом и литературой. Поэтому в словосочетании «консервативное писательство» содержится точно такое же противоречие, как и в словосочетании «радикальная политика». Ибо литература — это анализ, дух, скепсис, психология, литература — это демократия, это — «Запад», и там, где литература соединяется с консервативно — националистическими убеждениями, там и проявляется тот разлад и раздрай между бытием и действиями, о котором я уже писал. Я — консервативен? Естественно, нет, ибо захоти я быть полностью таким, каковы мои убеждения, и я бы пошел против собственной природы, которая в конце концов есть то, что действует. В таких случаях, как мой, деструктивные и охранительные тенденции встречаются друг с другом, и раз уж речь зашла о действиях, то результат их встречи — двойное действие.
Впрочем, свою культурно — политическую позицию я занимаю довольно твердо, даже статистика помогает мне в этом. Согласно ее данным, в 1876 году (год спустя после моего рождения) был достигнут наивысший уровень рождаемости в Германии на 1000 человек. Он составил 40,9. После чего до конца столетия последовало медленное падение рождаемости, которое было не слишком заметно из‑за сокращения смертности. Внезапно, точ — нее говоря, с 1900 года, в течение 13 лет происходит падение рождаемости с 35 до 27 человек на 1000, — падение, которое, как уверяет нас статистика, не пережил ни один культурный народ за такое короткое время. При этом речь ни в коем случае не шла об ухудшении расы. Половые болезни и алкоголизм отступали, гигиена шла вперед. Причины падения рождаемости — моральные, или, чтобы выразиться индифферентно — научно, — культурно — политические; они находятся в сфере «цивилизирования»; в сфере того, что по западным меркам можно считать прогрессивным развитием Германии. Можно сказать еще короче и заострить на этом внимание: в эти годы немецкая проза достигла наибольших стилистических высот; одновременно с этим противозачаточные средства достигли самых отдаленных деревень Германии.