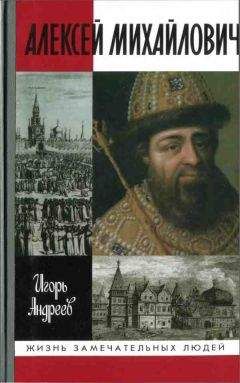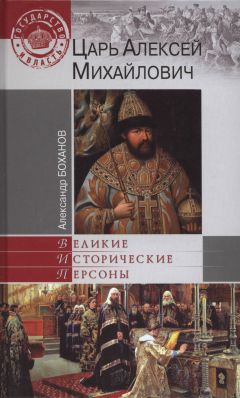Куда опаснее был для Бориса Ивановича двоюродный дядя царя, Никита Иванович Романов, последний представитель нецарствующей ветви Романовых. По положению, связям в высшей среде, наконец, по своим личным данным он стоял несравнимо выше ограниченного и не особенно смышленого Семена Лукьяновича.
Никита Иванович выделялся в среде московской знати. Он был человеком самостоятельным и амбициозным, способным не оглядываться на общественное мнение. Секретарь Голштинского посольства Адам Олеарий, оставивший чрезвычайно интересное описание Московии XVII века, рассказывал о пристрастии Никиты Ивановича ко всему иноземному: боярин был большим поклонником «немецкой музыки», охотно общался с «немцами» и даже сам хаживал в иноземном платье. Больше того, он обрядил в нерусское платье дворню, чем вызвал бурное негодование самого патриарха, которое гордый боярин совершенно игнорировал[75].
Конечно, западничество Никиты Ивановича, дошедшее даже до пострижения бороды, было достаточно поверхностным. Его скорее привлекали внешняя сторона, всевозможные диковинки и бытовые новшества. Именно Никите Ивановичу потомки обязаны появлению знаменитого ботика Петра Великого: до того, как молодой царь Петр нашел его гниющим на хозяйственном дворе в селе Измайлове, ботик был приобретен Никитой Ивановичем. Но если для боярина он, скорее всего, был не более как способом экзотического — ходить «галсами» против ветра — времяпрепровождения, то Петр превратил прогулочный ботик в «дедушку» военно-морского русского флота.
При Михаиле Федоровиче Н. И. Романов не был особенно обременен службой. Один из самых богатых людей страны, он предпочитал жить в свое удовольствие. Однако с воцарением Алексея Михайловича ситуация изменилась. Никита Иванович посчитал себя оскорбленным тем, что положенное по его представлению место при молодом государе досталось не ему, двоюродному дяде, а «дядьке» Морозову.
С недовольством Романова Борису Ивановичу справиться было не по силам. И дело не только в том, что Романов мало походил на податливого Стрешнева. Просто с Никитой Ивановичем компромисс был невозможен. Он хотел все или ничего, что, естественно, никак не устраивало Бориса Ивановича. Оставалась одно — война, и она была объявлена, хотя и протекала до поры до времени вяло и малозаметно. Морозов не пытался привлечь Романова в правительство и, по-видимому, был совсем не против частых отлучек Никиты Ивановича со двора и из думы.
Соперничество с Морозовым превращало Романова в неофициального лидера оппозиции правителю. К Никите Ивановичу примкнул боярин князь Яков Куденетович Черкасский. Унаследовавший многодворные вотчины своего родственника И. Б. Черкасского, князь Яков, не в пример болезненному и несколько инертному Никите Ивановичу, был человеком беспокойным и деятельным. Если Романов не особенно любил политическую борьбу, то Черкасский, напротив, не упускал случая помериться силами. Вскоре вокруг фрондеров объединились все обиженные и обойденные милостями, ждавшие подходящего случая, чтобы поквитаться с ненавистным временщиком.
Сколь ни искусен был в придворных интригах Борис Иванович, он прекрасно понимал, что прочность возведенных им оборонительных бастионов против многочисленных недругов в конечном счете зависит от отношения к нему царя. Пока «дядьке» Алексея Михайловича не приходилось жаловаться на неблагодарность своего воспитанника. Царь почитал его как отца и в этом чувстве доходил до самоослепления, простительного для обычного человека, но осуждаемого для государя. Так что убийственная ирония москвичей, которые утверждали, будто царь Морозову в рот смотрит и «молчит, черт де у него ум отнял», в своем невольном гротеске все же содержала долю истины.
Позднее в царских грамотах Морозову ставились в заслугу неустанное попечение и забота о государе и государственных делах: будучи в «дядьках», он, «отставя дом свой и приятелей, был у нас безотступно», государево здоровье стерег, служил верно «и о наших и земских делех» радел[76]. Как ни странно, этот панегирик содержит в себе долю правды. Но и эта правда, и правда мятежных москвичей, направивших свой гнев против ненавистного им Морозова, выхватывали и выставляли на обозрение лишь одну из сторон натуры Бориса Ивановича, скрывая самые глубинные побудительные мотивы его поступков. Последние же сводились к тому, что Морозов был человеком равно властолюбивым и умным: вцепившись мертвой хваткой во власть, он принял близко к сердцу задачи государственные и ретиво взялся за их разрешение. При этом у Бориса Ивановича хватило ума, чтобы соединить свои личные интересы с государственными. Это не значит, что он не мог отступиться от последних ради первых. Но отступаясь раз-другой, боярин осознавал, что так нельзя поступать до бесконечности.
Борис Иванович во многом напоминает своего знаменитого современника, кардинала Мазарини. На первый взгляд такое сравнение кажется малоудачным: изящный и образованный кардинал-итальянец, талантливый выученик Ришелье — и простоватый, тяжеловесный Борис Морозов. Но за внешним различием немало совпадений даже во времени и в жизненных изворотах: пребывание у власти при юных монархах (Алексей Михайлович и Людовик XIV), бунт и фронда, смертельная угроза и бегство, одоление противников и триумфальное возвращение в столицы (все в 1648–1649 годах!). В борьбе за власть оба без угрызений совести прибегали к приемам, далеким от христианских добродетелей; но в той же борьбе за власть оба проводили линию упрочения королевской и царской власти.
Существовало немало способов снискать симпатию монарха. Сто лет назад, на исходе боярского правления, противостоящие друг другу придворные группировки в борьбе за Ивана IV своим ласкательством пробуждали в нем самые низменные чувства. Сами того не ведая, бояре играли с огнем, будили лихо: в юном Иване — будущего Ивана Грозного. Но действовали они вполне логично: заприметив жестокие наклонности натуры великого князя, они и ублажали его жестокостями. Алексей Михайлович, по счастью, не находил удовольствия в пытках и мучениях. Если что безмерно радовало и привлекало его, так это охота и бесконечные богомольные походы по ближним и дальним святым местам. Сколь ни важными были в глазах православных людей эти царские занятия, к текущему управлению они не имели отношения. Главные дела решались у Морозова и его людей. Появление царя если и вызывало переполох, то иного свойства. Для обретения благосклонности царя Алексея следовало просто не ударить лицом в грязь, то есть встретить как положено. Как, к примеру, это сделал в мае 1646 года суздальский архиепископ Серапион. В письме из Москвы в Суздаль казначею Савватию он писал: по слухам, государь скоро отправится в поход в Троицу, в Александровскую слободу, а затем в Юрьев, Владимир и Суздаль. Потому на всякий случай срочно готовиться к встрече — в соборной церкви «вычистить и обмести образы и стены»!