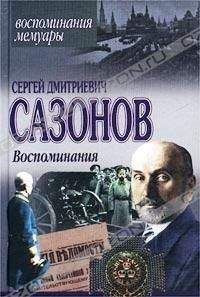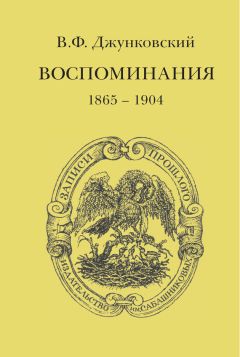Ещё до начала работы совещания послов в Лондоне уже можно было не сомневаться в том, что центральным пунктом конференции, тем фокусом, в котором будут преломляться трудно примиримые между собой точки зрения держав Тройственного согласия и Тройственного союза, сделаются неразделимые вопросы создания независимой Албании и допущения Сербии к выходу в Адриатическое море. Я назвал эти два вопроса неразделимыми, потому что Австро-Венгрия и Италия, в силу своих парадоксальных политических взаимоотношений, договорились относительно необходимости согласиться на создание независимого Албанского государства, как бы оно ни оказалось мало жизнеспособным, для того, чтобы ни той, ни другой из обеих адриатических великих держав не пришлось уступить другой стороне преобладающее положение на Албанском побережье. Подобная сделка не давала залога прочности, но как временная мера она представляла известную выгоду, и создание самостоятельной Албании обратилось в нечто вроде догмата как в Вене, так и в Риме. К этому взгляду немедленно присоединился и берлинский кабинет и тем придал ему ещё больший вес. Таким образом, уступка какой бы то ни было части этого побережья третьей державе не преминула бы разрушить с трудом налаженное Австро-Венгрией и Италией политическое равновесие на Адриатике. Вследствие этого возможность появления Сербии, недоброжелательство к которой венского кабинета усиливалось по мере её военных успехов, в Сан-Джиованни-ди-Медуя или Дураццо, вызывала во всех державах Тройственного союза одинаково враждебное к себе отношение.
Этим обстоятельством, с которым невозможно было не считаться русскому правительству и его друзьям, предопределялся в неблагоприятном смысле исход усиленных стремлений сербского народа найти себе доступ к ближайшему морскому берегу и, таким образом, стряхнуть с себя экономическую зависимость от недоброжелательных соседей.
Я уже сказал, что единодушные симпатии русского правительства и общества были на стороне Сербии. В начале 1913 года сочувствие нашего общественного мнения сербским домогательствам стало проявляться с силой, которая внушала мне некоторые опасения относительно возможности удержать в руках правительства руководящее влияние на ход политических событий. В вышеупомянутых общественных кругах, близко стоявших к некоторым придворным и военным центрам, укоренилось убеждение, что настала удобная минута рассчитаться с австро-венгерским правительством за грехи политики Эренталя. Подобное настроение являлось результатом, с одной стороны, интриг отдельных лиц, из которых некоторые находились под гипнозом личных честолюбивых замыслов, другие же – ложно понятого патриотизма, а третьи, и наиболее многочисленные, действовали под влиянием принципиальной оппозиционности правительству, а также плохой осведомленности об общем политическом положении Европы. На самом деле, если бы Россия в эту минуту решилась пойти дальше оказанной Сербии вместе со своими союзниками дипломатической поддержки, ей пришлось бы сделать это одними её собственными силами и на свой страх и риск, так как ни Франция, ни Англия не стали бы на её сторону для защиты чуждых и малопонятных им интересов.
Разумные и ответственные люди вполне правильно оценивали у нас истинное положение вещей, хотя в самом совете министров и нашлось двое или трое лиц, которые не скрывали своего осуждения «слабой и антиславянской политики» министра иностранных дел. Усилия их не привели, однако, ни к каким опасным для государства последствиям. Государь, и за это Россия должна быть ему навсегда признательна, несмотря на своё сердечное сочувствие национальным стремлениям сербского народа, проявил в эту тревожную минуту ясность политической мысли и твердость воли, которые положили конец тем интригам, что толкали нас на путь европейской войны при самых неблагоприятных для нас условиях и из-за интересов, не оправдывавших тяжелых жертв со стороны русского народа.
Когда я вспоминаю об этих уже далеких событиях, мне невольно приходит на ум мысль о том, что если бы в эпоху японской войны император Николай стал так же твёрдо в защиту государственных интересов России и не дал бы себя опутать сетью интриг безответственных искателей наживы и приключений, то весьма вероятно, что наша родина, Он сам и столько членов Его дома не захлебнулись бы в море крови и слёз Русской революции, и история человечества не занесла бы на свои страницы событий, не имеющих себе равных по скорби, ужасу и позору.
Возможно, что воспоминание о грозном уроке японской войны послужило Ему на пользу и дало ту твердость, которой у него не хватило в роковом 1903 году. Поддержка, оказанная мне Государем, не ослабла ни разу в самые критические моменты обеих балканских войн и получила своё официальное завершение в рескрипте на моё имя в начале лета 1913 года, в котором император Николай одобрял мои усилия в деле сохранения мира. Одобрение Государем моей политики было высказано настолько недвусмысленно, что заставило сразу смолкнуть хор враждебных голосов моих противников и примкнувших к ним любителей интриги и скандалов из рядов наших патентованных патриотов. Я считаю долгом с благодарностью вспомнить здесь и ту поддержку, которую мне неизменно оказывал во время балканского кризиса и в другие трудные минуты моей служебной деятельности тогдашний председатель совета министров В. Н. Коковцов. Удаление от дел этого умудренного долгим государственным опытом и по природе своей осторожного и чуждого всяких увлечений человека было для меня весьма чувствительно, и я не раз имел случай глубоко сожалеть о замене его И. Л. Горемыкиным, старцем, утратившим давно не только способность интересоваться каким бы то ни было делом, кроме личного своего спокойствия и благополучия, но даже просто отдавать себе ясный отчёт в окружавшей его действительности.
Благодаря рескрипту Государя работа русской дипломатии, насколько это касалось внутренних условий её течения, была чрезвычайно облегчена. Зато извне трудности нашего положения постепенно росли и нагромождались настолько, что иногда мне казалось, что всем моим усилиям сохранить мир суждено было разбиться о глухую стену безумия и злой воли австро-венгерской дипломатии, над которой покровительственно высилась громадная тень германского государственного щита.
Задача моя усложнялась ещё и тем, что в самой Сербии, которая была предметом искренней и горячей заботливости русского правительства, я нередко не находил того самообладания и той трезвой оценки опасностей момента, которые одни способны предотвращать катастрофы. Я упоминаю об этом факте без всякой мысли бросить укор сербскому народу, разорвавшему сравнительно недавно цепи турецкого гнета после вековой борьбы и тяжких страданий и приблизившемуся наконец к цели своих страстных чаяний. Мне наоборот вполне понятно его бурное нетерпение, когда вдруг между ним и этой целью, казавшейся его молодому воображению столь близкой, стали снова воздвигаться препятствия, которые грозили лишить его плодов с таким трудом достигнутого успеха. Сербские настроения были мне ещё тем более понятны, что тогдашний русский представитель в Белграде, Н. Г. Гартвиг, предпочитал выигрышную роль потакателя этих повышенных настроений белградских правительственных и общественных кругов той менее благодарной, но более соответствующей истинным интересам Сербии, которую он должен был играть в качестве русского представителя, ближайшей обязанностью которого было, жертвуя личной популярностью, предостерегать правительство и народ от опасных увлечений. Гартвиг истолковывал в Белграде русскую политику по-своему и тем крайне затруднял мою задачу, пока, наконец, политическое напряжение не достигло во всей Европе такого состояния, что возможность серьезных европейских осложнений из-за вопроса об Албанском побережье становилась все вероятнее. Как относились к подобной перспективе наши союзники и друзья, мной уже было сказано выше. Патриотические увлечения некоторых сербских заграничных представителей обостряли ещё опасность общего положения. Так, например, поверенный в делах в Берлине уверял германского статс-секретаря по иностранным делам, что балканские союзники поделили между собой окончательно Адриатическое побережье и что Сербия уверена в доброжелательной поддержке не только Болгарии, но и России. Само собою разумеется, что русское правительство не давало Сербии в этом смысле ни прямых, ни косвенных обещаний; что же касается Болгарии, то союзный договор не давал Сербии никакого основания рассчитывать на вооруженную помощь своей союзницы в этом вопросе. Напоминая в Белграде обо всем этом, мне пришлось просить сербское правительство не затруднять нам взятую на себя роль защитника сербских интересов и не упускать из виду, что в вопросе о выходе Сербии к Адриатическому морю нам приходилось проводить различие между целью и средствами. Целью для нас являлось возможно полное обеспечение экономической независимости Сербского государства. Что касается до средств её достижения, то таковыми могли быть либо обладание частью побережья, либо железнодорожное соединение с тем или иным адриатическим портом, на тех же условиях, на которых могло бы состояться свободное допущение австрийских товаров в Салоники, которого добивалось австро-венгерское правительство. Уступчивость Сербии в вопросе о приобретении порта на Албанском побережье облегчила бы её друзьям возможность её территориального увеличения в направлении к югу или соответственного сокращения в её пользу будущей албанской территории. Если в Вене не отдавали себе отчёта в том, что интересы Австро-Венгрии требовали установления возможно прочного мира на Балканском полуострове, то Сербии не следовало забывать, что ставя неосторожные требования, она рисковала потерять достигнутые ею в войне с Турцией блестящие результаты.