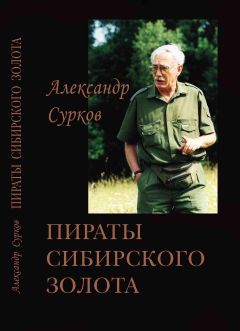Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа в постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.
То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, – отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь, – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.
Но ни одним из всех философских направлений, – продолжает свой рассказ Лев Николаевич, – я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (neant) там, где меня не было».
«Отрочество» кончается изображением дружбы Николеньки Иртенева с Нехлюдовым.
И самое заключение этой повести в нескольких словах выражает тот идеал человека, которому Лев Николаевич, не переставая, служил в течение всей своей жизни и служит теперь, на закате дней своих:
«Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью, – очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть вполне счастливым…»
Несомненно, что эта наклонность к отвлеченным суждениям, эта робость и застенчивость, это стремление к идеалу, – все эти качества, проявлявшиеся в ребенке, были только простыми элементами, из которых постепенно слагалась гармоническая душа художника-мыслителя. И мы видим теперь лишь полный расцвет этих духовных ростков, заложенных в Льве Николаевиче еще во времена его отрочества.
Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, Лев Николаевич в детстве своем воспринял своей отзывчивой душой все, что мог, лучшего из окружающей его среды и был искренно религиозен. Намеки на это мы видим в «Детстве». Но эта «привычная» религиозность слетела с него при первом дуновении рационализма.
В своей «Исповеди» он так рассказывает о своем религиозном воспитании, соответствующем этому времени:
«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с самого детства и во все время моего отрочества и юности.
Но когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.
Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, что исповедывали передо мной большие, но доверие это было очень шатко. Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное».
Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь.
Интересно свидетельство самого Льва Николаевича о тех литературных произведениях, которые, насколько он помнит, оказали большое влияние на его духовное развитие в период его детства и отрочества, т. е. до 14 лет приблизительно. Вот список этих произведений:
Приведем теперь несколько эпизодов из отроческой жизни Льва Николаевича, частью записанных нами с его слов, частью слышанных от его родственников и, наконец, заимствованных из других источников, уже появлявшихся в печати, к которым мы отнеслись критически, сделав выбор, соответствующий имевшимся в наших руках достоверным указаниям. Рассказы эти нет возможности поставить в хронологический порядок.
«Еще в начале московской жизни при отце, – вспоминал раз Лев Николаевич – у нас была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером у отца был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор, потому что, при горячих лошадях, мальчик не мог управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но оказалось, что отец еще не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.
Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованье, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через месяц преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».