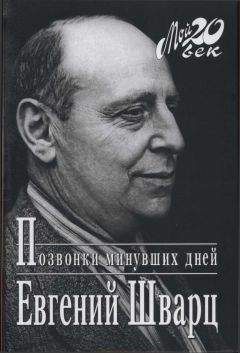Я не могу слышать, когда о детстве или о молодости вспоминают снисходительно, с усмешкой удивляясь собственной наивности. Детство и молодость — время роковое. Угаданное верно — определяло всю жизнь. И ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. То, что мы старались все называть, понимать как бы заново, в сущности, определило многое и в хорошую, и в дурную стороны. Я научился вставать лицом к лицу с предметом. Без посредников. Но зато потерял веру в чужой опыт и в то, что можно что‑нибудь узнать не непосредственно…
Среди новых учеников, оставшихся на второй год, появился у нас Ромочка Долубеков, армянин, очень бледный, с невысоким лбом, густой шапкой волос, ладный, мужественный, наивный, склонный к красноречию, ласковый с близкими. Я слышал, как он разговаривал с сестрой, и полюбовался на них. Оба бледные, миловидные, сестра повыше — наш Ромочка был небольшого роста, — они беседовали так ласково, сестра так заботливо поправила ему воротничок. В зрелище дружной семьи для меня тогда было особое очарование. Говорил Ромочка с эффектами. Однажды он сообщил: «У Дамаева голос лопнул — вся Москва рыдает». Чтобы быть совсем точным, надо добавить, что в речи его не было и признака армянского акцента — вещь обычная в наших краях, где армяне были больше нахичеванские, из- под Ростова, сильно обрусевшие. Сведения о Дамаеве, кстати, не подтвердились. Однажды мы услышали печальную новость: у Ромочки умер отец. Несколько дней не приходил он в класс, потом появился, еще более бледный и задумчивый. А месяца через два — три стал ужасаться тому, что жизнь его и всей семьи начинает входить в свою колею. Случилась беда, казалось, что жизнь разбита, дружная семья без отца не сможет дальше жить. А она живет. И чем дальше, тем спокойнее. И Ромочка стал философствовать в своей эффектной манере. Стал доказывать, что жизнь бессмысленна. Наклеил в общей тетради вырезанное из какой‑то газеты стихотворение, подтверждающее его мысли. Стихотворение кончалось так: «Жизнь — это бочка страданий / С наслаждения ложечкой в ней». Мы с ним спорили, и шутя, и полушутя. И однажды на уроке физики мы, притворившись, что Ромочка убедил нас, решили сказать хором: «Смысла в жизни нет».
И мы так и сделали. Сказали хором, посреди урока: «Смысла в жизни нет». Вышло это эффектно. Яцкевич засмеялся, после чего это изречение мы повторили. И оно вошло в моду. От времени до времени на тех уроках, где мы это могли себе дозволить, по данному знаку класс произносил печально: «Смысла в жизни нет». Произошло это в двенадцатом году. Когда я приехал в Майкоп летом 1915 года, то узнал с удивлением, что после нашего окончания обряд этот не только не забылся, а напротив, вырос, усложнился. Откуда он пошел, новое поколение реалистов объяснить не могло. Но от времени до времени на тех уроках, где они могли позволить себе это, по данному знаку мальчики произносили следующее: «Смысла в жизни нет, жизнь наша копейка, Викеша — бузовар, Жако — душка; вздохнем, ребятки! О — о-о — о!» (глубокий вздох)…
Наши школьные вечера всегда казались необыкновенными, все обязанности снимающими, все угрызения совести учащающими событиями. Что там думать о запущенных делах своих и о страшных драках, когда завтра вечер. Да еще устраивались они, как правило, по субботам или под праздник. Значит, после вечера еще целый день, в который можно чего‑нибудь придумать: дописать сочинение, на которое дано было две недели, а я еще к нему и не приступал. Довольно рассуждать. Реальное училище, переродившееся, потерявшее все признаки будней. На вешалках младших — пальто гимназисток, пахнет духами. В синих платьицах с белыми фартуками, таинственные, приводящие в мучительное смущение, цепенение, едва только подумаешь о том, чтобы заговорить с ними, девочками. Я только кланяюсь и вглядываюсь. Где же Милочка? Издали вижу — не смею видеть, — угадываю я знакомый ореол волос и сине — серые глаза. И тогда праздничность и волшебность происходящих событий подтверждаются. Я здороваюсь издали. Подойти не смею. Потом. Когда начнутся танцы. Умеющие рисовать дарят своим избранницам программы вечера — бристольский картон, нарисованные на самом лучшем бристольском картоне розы, или фиалки, или пейзажи окружают старательно написанный текст: «Первое отделение — то‑то и то‑то, второе — танцы». В зале стоят стулья для первых рядов, скамейки для последних. Для гостей и для хозяев…
Я вспомнил, что ровно сорок лет назад, 8 июня по старому стилю, я объяснился в любви Милочке[31]. Два дня — 8–е и особенно 9–е июня — считал я всю жизнь знаменательными. В шестом классе мы держали выпускные экзамены. Первые выпускные. Никаких прав шестиклассное образование не давало, но тему для сочинения получали мы из округа (плохо пишу сегодня), задачи тоже, и рассаживали нас за столиками в зале, и весь педагогический совет присутствовал при начале экзаменов. В седьмом классе, который считался добавочным, все повторялось сначала. Для экзаменов составил я расписание на куске картона, кажется мне, на обратной стороне папиной счетной книги, такого же формата, как и эта, на которой пишу. Папа собирался когда‑то заняться частной практикой, но, как всегда, возненавидел это дело. А книги для записи пациентов пошли мне на черновики. И на обложке я написал расписание и вычеркивал предмет за предметом, зачеркивая сплошь так, чтоб получился прямоугольник. Так превратилось в черный прямоугольник, в два прямоугольника, все расписание. И я перешел в седьмой класс. Предполагалось, что выпускного вечера у нас не будет. Но вот кто‑то из товарищей забежал сказать, что он все‑таки состоится. И я, и без того полный счастья от того, что кончились благополучно экзамены, от лета, от хорошего дня (был дождь, но прояснилось), — совсем опьянел. И понял, что это только начало. Я не то что предчувствовал, что вечер будет счастливым, а был спокойно уверен в этом, как это изредка случается и сбывается в удачные дни. И вот он пришел. И я, как всегда, стоял у входа. И угадал Милочку еще издали, когда она шла, приближалась к калитке училищного двора мимо решетчатого нашего забора вместе с Олей Янович светлым июньским вечером. Но он успел уже потемнеть, пока кончилось первое отделение программы и я поговорил с Милочкой, и второе, когда я подошел к ней наконец. Во время перерыва в танцах мы вышли во двор сначала большой компанией, потом мы остались втроем, и наконец ушла и Оля. Ночь была ясная. Окна училища освещены. Мы подошли к бассейну, где у нас плавала единственная рыбка. И я, сделав над собой сверхъестественное усилие, спросил Милочку, что бы она ответила, если бы я объяснился ей в любви? Милочка сказала, что она не поверила бы мне, потому что я, как ей кажется, люблю другую. Кого же? Олю Янович. Я стал возражать, и постепенно мое объяснение из предположительного превратилось в утвердительное. Я был как в тумане. Страха я уже не чувствовал. Я упорно не соглашался ни на какие отговорки, настаивал на одном: «Милочка, я тебя люблю. Скажи мне — любишь ли ты меня?» Конечно, я не смел говорить об этом так прямо, как написал сейчас. Я спрашивал: «Как ты ко мне относишься?» Васька, очевидно, не пришел на вечер, потому что я провожал Милочку домой. По дороге она попробовала сказать, что нам о любви говорить рано, мы еще дети. Я резко возразил против этого, хотел сказать, что мне уже пятнадцать лет, но не сказал. Цифра эта показалась мне не слишком внушительной. И так мы шли темной, но ясной ночью и дошли наконец до Милочкиного дома. Но я не отпустил ее. Я преградил ей путь к калитке, упершись рукой в забор, и требовал ответа. Я требовал только, чтобы она ответила мне — да или нет. Если нет, я никогда больше не буду говорить с ней о своей любви. Если да, то я ее буду любить всю жизнь и никогда не оставлю ее. Таков смысл того, что я бормотал, стоя прямо против нее, упершись рукой в забор. Милочка молчала, опустив голову. Один раз начала, но запнулась на первой букве, а какой — «н» или «д», я не мог понять. «Если она скажет — да, надо будет ее поцеловать», — подумал я. Но она все молчала. Я чувствовал, что она не может сказать «нет», но радости не было в моей душе, потому что я был отуманен, ошеломлен необычностью происходящего, собственной моей непонятной мне настойчивостью. И вот вдруг Милочка сказала: «Да». Я сделал шаг вперед, протянув руки, и напугал бедную девочку. Она метнулась вправо и молча скрылась, я слышал, как побежала она по двору. А я пошел домой, не понимая, что произошло. Она сказала: «Да». Но я напугал ее. Она обиделась. Убежала. Но все‑таки она ответила: «Да». Зачем я протянул к ней руки? Что будет? На все это я получил ответы завтра, 9 июня. Вот что произошло сорок лет назад.