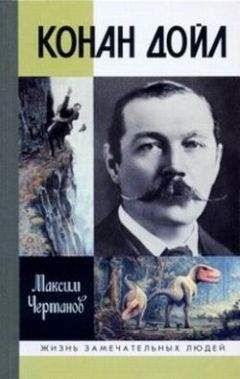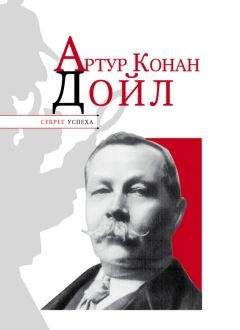Плавание на «Маюмбе» продлилось недолго, всего около трех месяцев, но уже на середине срока Артур понял, что это – не для него; к тому же он, по его собственным словам, почувствовал, что потихоньку спивается. Преувеличивал или нет – сказать сложно; он конечно же боялся, что мог унаследовать пагубную склонность от отца, и заметим сразу, что больше никогда он много пить не будет – ни от скуки, ни от потрясений: «На моем пути постоянно оказывались ловушки, и я благодарен всем ангелам-хранителям, что не угодил ни в одну из них, хотя и с сочувствием отношусь к тем, кто этого не избежал». Как можно понять из других отрывков, приведенная фраза касается уже не столько вина, сколько прекрасного пола. (Двадцать два года всего лишь было доктору; о Гумилеве так и вовсе распускали слухи, будто он в Африке женился на чернокожей девушке.) В общем, Африка со всеми ее пышными красотами юному Дойлу не понравилась, и в его дальнейшем творчестве она найдет лишь слабый отклик.
«Доход ниже того, что я могу заработать пером за такое же время, а климат адский», – писал он матери, чтобы объяснить свое нежелание впредь ходить в плавания. Но дело было отнюдь не в доходе и не в климате: как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, жизнь кочевника с ее экзотическими опасностями Дойл назвал слишком легкой и роскошной (это притом что он пару раз снова был на волосок от гибели, а «Маюмба» в конце рейса едва-едва не взлетела на воздух в результате пожара), в противоположность той «тяжелой борьбе», которая, как он верно предвидел, ждала его на берегу – во врачебном кабинете и за письменным столом. Отличить искусственные трудности от настоящих в двадцать два года способен не всякий человек. К этнографии, как мы уже заметили, Артур в том возрасте был равнодушен, к миссионерству не склонен, а что-то иное вряд ли могло оправдать подобные экскурсии. Он даже поклялся больше не путешествовать – слова этого, конечно, не сдержит, будет ездить много и охотно, но служить на корабле уже никогда не станет.
В январе 1882 года он вернулся в Ливерпуль, оттуда поехал в Эдинбург. Ничего, в сущности, за это время не изменилось, разве что мать и Брайан Уоллер в очередной раз сменили адрес (Лонсдейл-террас, 15): работы так и не было, свою практику открыть по-прежнему не на что, да и кто пойдет лечиться у никому не известного мальчишки? Состоялось несколько напряженных разговоров с матерью: полученное письмо Мэри Дойл не убедило, и она продолжала настаивать, чтобы сын вновь нашел себе должность корабельного врача, а он, похоже, не мог или не хотел рассказать ей об этих экспедициях всей правды. Однако деваться-то ему было некуда – не сидеть же вечно безработным, – и он стал подумывать о новом рейсе – теперь, для разнообразия, южноамериканском. (Доктор Дойл так и не попадет в Южную Америку, но профессор Челленджер побывает там.) Тем временем возникла еще одна возможность устроить свою карьеру: тетка Аннет и дядюшки, имевшие множество связей в католических кругах, звали к себе, теперь уже прямо и настойчиво предлагая стать «католическим врачом». Он отказался даже обсуждать это; родственники всерьез его слов не приняли, настаивая на приезде в Лондон. Артур приехал, но это ничего не изменило – только разругались.
Мэри Дойл тем временем уже решила перебраться с двумя младшими дочерьми жить к Брайану Уоллеру, в принадлежащее его семье поместье под Йоркширом. Сам Уоллер, оставив карьеру врача и выбрав образ жизни сельского сквайра, намеревался поселиться там же, правда, в другом доме, унаследованном им от умершего недавно отца. Артур оставался в Эдинбурге один-одинешенек. Оплачивать квартиру ему было не на что. Денег от Уоллера он брать не хотел. С южноамериканским (или хоть каким-нибудь) рейсом тоже ничего не получалось. Существовала в те времена такая работа, как домашний врач в богатой семье, дело, с одной стороны, рискованное – можно нарваться на каких угодно деспотов, но с другой – весьма привлекательное. «Но тут открывалось не только место, а и связи в высшем обществе. Случится заболевание в семье (может заболеть сам лорд Салтайр или его жена), за доктором посылать – время не терпит. Приглашают меня. Я приобретаю доверие и становлюсь домашним врачом. Они рекомендуют меня своим богатым друзьям. Я рассуждал по дороге домой, стоит ли отказываться от выгодной практики ради профессорской кафедры, которая может быть мне предложена».
Но в действительности, увы, никто и не думал предлагать молодому специалисту ни профессорских кафедр, ни работы у людей со связями в высшем обществе. Ни на одно его объявление никто не откликался – хоть по миру иди.
И тут очень кстати, как в романах, пришла телеграмма от доктора Бадда, к тому времени перебравшегося из Бристоля в Плимут. Отчасти этой телеграмме мы обязаны одним из лучших художественных текстов, написанных Конан Дойлом. Речь идет о неоднократно уже цитированных «Письмах Старка Монро». К сожалению, большинство русскоязычных читателей знакомы со старым сокращенным переводом этой книги, из которой была вырезана ровно половина текста. Полный перевод издан лишь в 2006 году; для «покупабельности» его переименовали в «Загадку Старка Монро» и в аннотациях сделали все для того, чтобы сбить читателя с толку: «..."Записки Старка Монро" могут показаться набросками к „Шерлоку“ – герой-доктор, подробно излагающий происходящую с ним историю в письмах, другой герой – эксцентричный и хитроумный, гнетущая и таинственная атмосфера лондонских предместий, детективная интрига». На самом деле никакой детективной интриги, никакой таинственной атмосферы в тексте нет и в помине, и доктор Монро не имеет к доктору Уотсону ни малейшего касательства. «Письма Старка Монро» – роман-переживание, что-то вроде «Воспитания чувств». Это самый откровенный, самый непосредственный текст, какой Дойл написал когда-либо. Если мы хотим понять, каким наш герой был в юности, мы обязаны обратиться к «Письмам». Но здесь перед нами встает не совсем простая задача.
Роман, по признанию самого автора, является почти на сто процентов автобиографическим. В нем мы видим доктора Дойла таким, каким он был в 1882 году. Но написан-то роман в 1893-м (черновой вариант; год спустя он был автором отредактирован) уже вполне зрелым мастером. Так что если подходить к делу строго, на этом тексте стоило бы подробно остановиться лишь тогда, когда мы доберемся до 1893 года. С другой стороны, не обращаться то и дело к этому роману в главе о юности Артура Дойла невозможно, настолько детально в нем описаны злоключения (и, что еще более важно, мировоззрение) молодого доктора; эта детальность настолько соблазнительна для биографов, что многие из них, характеризуя плимутский период в жизни Дойла, просто пересказывают огромные фрагменты из романа «своими словами». Есть и другой подход: поскольку плимутский период был очень недолог (с середины весны до начала лета 1882-го), то о нем рассказывают в двух словах, всю «идеологию» Старка Монро выносят в другое место, где говорится об отношениях Конан Дойла с религией, а о самом романе упоминают вскользь, когда доходят до периода его написания, – наверное, с точки зрения биографических канонов это правильно, но целостное впечатление от книги разрушается. А что, если нам на русский манер поискать третьего пути? Сперва опишем вкратце жизнь доктора Дойла в Плимуте, а сразу же после этого займемся собственно романом?