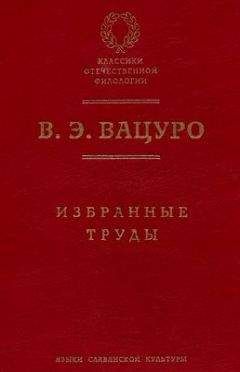Письмо — демонстрация безграничной преданности престолу; так лучше — и для корреспондента, и для адресата.
В этих условиях лучше всего заключить всеобщий мир.
С 1827 года отзывы «Северной пчелы» о прежних противниках — Баратынском, тем более о Жуковском становятся все лояльнее и благосклоннее. Летом этого года Булгарин делает первые шаги к примирению с Николаем Полевым[134].
С Дельвигом же и прямой борьбы у него не было, была интрига, конкуренция.
Булгарин дает в «Северные цветы» очерк — «Развалины Альмодаварские» из своих старых испанских впечатлений.
Одновременно в дельвиговский альманах приходит Орест Сомов.
Еще в июне отношения его с Дельвигом были прохладны: вероятно, сказывались следы прежних литературных распрей.
«…С Дельвигом я иногда видаюсь, но, не знаю почему, до сих пор мы не могли сблизиться», — писал он в одном из писем[135]. Стало быть, потепление отношений приходится на вторую половину 1826 года. Во всяком случае, в «Северных цветах» появилась его «малороссийская быль» «Юродивый» — небольшая повесть из быта и преданий Малороссии, его родины. Сомов был одним из зачинателей этой темы, которой предстояло достигнуть своей вершины в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Прежние «вкладчики» «Полярной звезды» шли в альманах Дельвига.
И что было особенно важно — они доставляли Дельвигу прозу: беллетризованный очерк, новеллу — то, в чем постоянно нуждались альманахи — все альманахи, исключая, быть может, «Полярную звезду». И Булгарин, и Сомов умели писать именно альманашную прозу — и в этом сказывались навыки профессиональных литераторов. Сомов был даровитым прозаиком, но все его замыслы большого романа остались незавершенными: он работал всю жизнь для журналов и альманахов, которые требовали малых прозаических форм.
И еще один человек из кружка «Полярной звезды» появился в «Северных цветах». Это был уже знакомый нам Василий Никифорович Григорьев. Восстание и все последовавшие события не коснулись его — во всяком случае, внешне; в поздних записках он с некоторой боязнью вспоминал о своей короткости с людьми, которые, как оказалось, замышляли произвести государственный переворот. Когда эшафот и каторга поглотили его старших покровителей и учителей, он сохранил связи с Булгариным и Сомовым — и Дельвигом. Он дал ему стихотворение «Бештау», навеянное впечатлениями от Грузии, где он побывал весною 1825 года; Кавказ теперь питал его творчество, и с Грузией же окажется связанной его биография ближайших лет[136].
В «Северных цветах» собирались остатки рассеянного Вольного общества любителей российской словесности.
Председатель же общества, Федор Николаевич Глинка, испытавший арест, суд и высылку, сидел в это время в Петрозаводске советником Олонецкого губернского правления, и приказные хлопоты не заглушали в нем невыносимой тоски. Мир его рушился, и ему начинало казаться, что «любви и дружества уже не стало на земле». Оставались письма, стихи и воспоминания. Письма становятся для него беседой, визитами. Вместо живых людей он населяет свою комнату портретами: у него есть уже гравированный портрет Крылова; он просит таких же от Гнедича и от Греча. В этом иллюзорном мире нарисованных слов и нарисованных лиц он ведет свою иллюзорную жизнь — в стихах: он заново переживает тюрьму, суд, опровергает клеветников, спасается от доносчиков, жалуется и исповедуется.
Библейские пророки его псалмов уже не гремят обличениями, они томятся на чужбине, под снежными бурями Прионежья, они ждут, когда исполнятся сроки, их окружают «ловители», готовящие кандалы.
Эти стихи, столь личные, столь субъективные, попадая в печать, становились фактом общественным. В них отсвечивала судьба автора, принадлежавшая истории общества.
А в печать они проникали. По счастью, он не был осужден формально и ему дозволялось печататься. В ноябре 1826 года Греч письмом пригласил его к сотрудничеству в «Сыне отечества и Северном архиве». Обрадованный Глинка поспешил ответить согласием — но Греч замолк. Глинка ждал долго и тщетно, но никаких объяснений не последовало. Иллюзия рухнула — и это было для него особенно тягостно. Он считал, что над ним тяготеют три несчастия: бедность, политическое унижение и одиночество; сотрудничество в петербургском журнале было бы если не избавлением, то облегчением.
Связи с альманашниками не приносили денег, но скрашивали одиночество. Глинка всегда охотно откликался на просьбы, тем более сейчас. «Если увидите Дельвига и Плетнева, — пишет он Гнедичу, — поклонитесь то-же им. Барон что-то долго уж не пишет». Стало быть, Дельвиг писал уже Глинке-ссыльному — но письма эти не дошли до нас[137].
В «Северных цветах на 1827 год» есть несколько произведений Глинки: два в прозе («Чудесная сопутница», «Осенние дни»), «аполог» из Гафиза «Нетленные глаза» и маленькое полушуточное «Приключение». Все эти вещи могли бы быть написаны еще до несчастий, постигших Глинку. Может быть, так оно и было: ссыльному не менее Греча нужно «сидеть тихо», не страдать и не жаловаться. Уместно ли публиковать в Петербурге тюремные стихи?
Глинка «сидит тихо» — до поры до времени.
В январе 1827 года в Главный цензурный комитет пересылается по заключению цензора П. И. Гаевского его стихотворение «Сон», предназначенное для «Северных цветов», где «поэт представляет мать свою явившеюся ему в сновидении и предсказывающею со слезами будущий бедственный жребий его». Стихи, по заключению министра, не подлежали напечатанию: «подписанное под стихотворением имя сочинителя, замешанного в происшествиях 1825 года», могло «подать повод к различным заключениям»[138].
Глинка был последним из могикан «Вольного общества».
Оно вырастило плеяду поэтов и прозаиков, познакомило их между собою, создало печатные органы и в недрах своих зародило два альманаха. Потом оно распалось на кружки — и кружок Дельвига был теперь единственным оставшимся, к которому тянулись литературные силы.
В «Северных цветах на 1827 год» есть стихи, написанные начинающими поэтами. Одним из них был Валериан Павлович Шемиот, принесший в альманах одну переводную элегию из Парни. Он был в каком-то родстве с Пушкиным: во всяком случае Л. Н. Павлищев, сын Ольги Сергеевны, называет его двоюродным братом своей матери[139].
Двадцатилетний Павел Шкляревский отдал в «Цветы» перевод «Der Tanz» Шиллера («Пляска»). Этот сын священника из Лубен был даровитым поэтом и подавал блестящие надежды как филолог. Он только что окончил петербургскую гимназию и поступил в университет; он знал несколько языков и питал особое пристрастие к немецкой поэзии и русским «архаистам»; шиллеровские дистихи выходили у него торжественными и важными, насыщенными славянскими речениями.