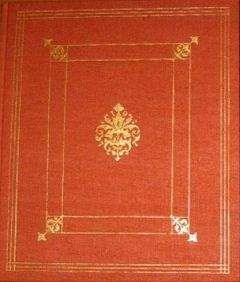Ознакомительная версия.
Комментируя вторую выставку «Золотого руна» (1909), на которой были показаны протокубистические полотна Брака, И. Грабарь выявил живописную логику нарождающегося кубизма: «Это течение… можно было бы назвать пробудившейся тоской по архитектурности композиции. … И вот у Брака “Купальщица” превращается почти в архитектурный чертеж… Все это только намеки, только начало, и у Пикассо то же выражено гораздо последовательнее и беспощаднее, но все же злополучные картины Брака не заслуживают тех изумлений, которые они вызвали в Москве»[257].
О Пикассо заговорили широко в 1910 году. В мартовском (№ 6) выпуске «Аполлона» впервые в России было опубликовано его произведение – офорт «Ужин» (1904), в течение года художник несколько раз был упомянут на страницах журнала[258]. В апреле Н. Гончарова, комментируя цензурный запрет своих произведений, назвала себя единомышленницей художника: «Я… как и новейшие французы (Ле Фоконье, Брак, Пикассо), стараюсь достигнуть твердой формы, скульптурной отчетливости и упрощения рисунка, глубины, а не яркости красок»[259]. И уже в конце года Удальцова писала о «поголовной заразе Пикассо» на выставке «Бубнового валета»[260].
К этому времени картины Пикассо, еще не очень многочисленные, заняли тем не менее заметное место в щукинской коллекции. Так, именно зимой 1910 года датировал свое знакомство с произведениями Пикассо М. Матюшин: «Щукин сказал, что вещи этого молодого испанца у него “на испытании”. Я еще раз посмотрел на работы Пикассо и, пораженный своеобразной смелой трактовкой цвета целыми планами, сказал Щукину, что это самый интересный художник его собрания»[261].
Но еще некоторое время представление о Пикассо оставалось приблизительным. В октябре 1911 года московский иллюстрированный журнал впервые воспроизвел кубистическую картину – принадлежавшую Щукину «Даму с веером» (1908), но ошибочно счел ее новинкой скандального Осеннего салона[262], а в январе 1912 года публично опростоволосился журналист А. Койранский, принявший выставленные «Бубновым валетом» натюрморты В. Савинкова за работы Пикассо[263]. Немного помогли знакомству с художником и выставки 1912–1913 годов – он был представлен там несколькими рисунками и гуашами, не получившими широкого резонанса[264].
Отклики на зарубежные выступления Пикассо были немногочисленны, их характер определялся прежде всего позицией пишущего. Так, критики мирискуснической традиции, группировавшиеся вокруг журнала «Аполлон», сожалели об уходе художника в «тупик абстракции» от «голубой» и «розовой» живописи. «Если бы Пикассо продолжал идти по этой тропе, мы увидели бы большого декоративного живописца с редким для нашего времени богатством внутреннего содержания», – писал Я. Тугендхольд в рецензии на выставку произведений художника в галерее Воллара[265]. Разоблачавшие теорию кубизма социал-демократы имели весьма поверхностное представление о его лидере: «Даровитый Пикассо – беспокойно ищущая, но лишенная “личности»” фигура, весьма типичная для нашего времени жадных поисков оригинальности при почти всегдашнем отсутствии оригинальности подлинной…»[266]
Специального изучения требует отношение к Пикассо авангардистов. Его воздействие на них несомненно. Влияние аскетического и сурового живописного языка протокубистических полотен Пикассо очевидно в неопримитивизме Гончаровой, Малевича, Вл. Бурлюка и др. Так, удаленная с выставки картина Гончаровой «Божество плодородия», вероятно, имела прообразом щукинские картины Пикассо, в частности «Женщину с веером» («После бала») (1908)[267]. Следующая волна влияния Пикассо связана с приобретением Щукиным «Бутылки перно» (1912, Эрмитаж) и произведений синтетического кубизма в 1912–1914 годах[268]. Появление контррельефов соотносят с публикацией пространственных конструкций Пикассо во французской прессе в 1913 году и посещением Татлиным мастерской их автора в марте 1914-го[269].
Как ни странно, в сочинениях авангардистов творчество художника анализировалось редко. Он выступал скорее как символ нового искусства, образец современного мастера: «…рядом с Пикассо не горит ни одна звезда… для нас Пикассо – гений именно в самом подлинном смысле слова. Пикассо влиял и влияет на нас не только непосредственно… но влияет, как художественный организм, как известный тип художника…»[270] В этом качестве Пикассо довольно скоро стал объектом критики ларионовского крыла русских левых: «Гончарова права, теперь нужно бороться с Сезанном и Пикассо, а не с Репиным и Рафаэлем…»[271]; «…Пикассо является, опять-таки, потворствующим вкусам буржуа и художником той же складки, что и Матисс. Пикассо большой мастер, но вносит как раз те же разлагающие начала кабинетной работы, которая, собственно, и является не чем иным, как истинным академизмом»[272].
Подход участника ларионовских выставок живописца А. Шевченко представляется, на первый взгляд, более взвешенным, но и в нем присутствует скрытая полемика с парижским «вождем». Шевченко стремится представить поэтику кубизма прямым продолжением художественного языка архаических и неевропейских культур, при этом сознательно нивелируя роль Пикассо. Основатель кубизма не случайно занимает в его брошюре на удивление скромное место. С помощью прямолинейно выстроенной риторики Шевченко погружает мастера, олицетворявшего радикальный разрыв с прошлым, в по-своему выстроенную историю искусства: «Фигура Пикассо стоит совершенно одиноко… Путь Пикассо всем известен: сперва от Греко, далее через Сезанна к негритянскому искусству, к кубизму, где он и нашел свое наибольшее выражение… Он просто нашел новую художественную возможность – смешение материалов… Но разве не теми же способами пользовались и древние художники, напр<имер>, египтяне… греки… не то же разве в византийском, романском, русском искусствах, где художники вкрапливанием драгоценных камней, эмали, финифти, литья, резьбы и филиграни в свои плоские… изображения достигали того же эффекта…»[273] Вывод, казалось бы, помогает решить задачу Шевченко – доходчиво объяснить читателю смысл живописной революции кубизма, показав ему, что радикальная новизна шокирующих приемов на самом деле оправдывается тысячелетней традицией. Но одновременно он позволяет русскому интерпретатору лишить Пикассо ореола исключительности и акцентировать важную для ларионовского круга идею «Востока» (включающего и Россию) как подлинного источника художественного новаторства: «Теперь, когда Пикассо перестал быть для нас какой-то загадкой… нам ясно стало, что он вполне последователен, он только развивает то, что ему дали предшественники, видим, что он преемствен и при том столько же от Запада, сколько и от Востока, если от последнего не больше» (выделено мною. – И. Д.)[274].
Ознакомительная версия.