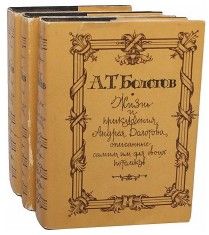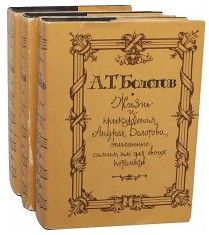Сим образом начал я с сего времени порядочно студировать и слушать философические лекции и производил сие так сокровенно, что долгое время никто о том не знал и не ведал. Но как наконец частые и всегда в одно время бываемые отлучки мои из канцелярии сделались приметны, и некоторые из наших канцелярских стали подозревать меня и толковать оные в худую сторону, то принужден я был наконец открыться в том г. Чонжину и у него выпросить формальное уже для отлучек сих себе дозволение. И тогда имел я удовольствие видеть, что обратилось мне сие не в предосуждение, но в особливую честь и похвалу. Г. Чонжин не только расславил и рассказал о том всем с превеликою мне похвалою; но сказал даже и самому генералу, и таким тоном, что и тот не преминул меня за то публично похвалить и при многих случаях приводил меня в пример и образец молодым людям, особливо распутным офицерам.
Но при сем одном не осталось; но как около самого сего времени прислан был к нему из Петербурга один из дальних родственников его, из фамилии Чоглоковых, для отдания его в тамошний университет учиться языкам к наукам, и он жил у одного из первых тамошних профессоров г. Ковалевского, так, как в пансионе, но молодой человек сей был такого характера, что потребен был за ним присмотр: то генерал наш не нашел никого, кроме меня, комуб мог препоручить сию комиссию. Почему и принужден был я от времени до времени ходить в тамошний университет, и в дом к помянутому г. Ковалевскому, и не только свидетельствовать успехи сего его родственника, но осведомляться о его поведении и поступках; а как вскоре после того и другой из наших армейских и тут бывших генералов, а именно господин Хомутов, по рекомендации от нашего генерала, усильным образом просил меня принять под присмотр свой и его сына, учившегося тут же в университете, то все сие сделало меня и в университете известным и приобрело мне и от всех тамошних профессоров, честь и особливое уважение, простиравшееся даже до того, что они при каждом университетском торжестве и празднестве не упускали никогда приглашать и меня вместе с прочими знаменитейшими людьми к присутствованию при оных, и все оказывали мне, как бы уже ученому человеку, особливую вежливость и учтивство.
Теперь легко можно всякому заключить, что для меня все сие не могло быть противно, но было в особливости приятно, и польза, проистекшая от того, мне была та, что я чрез то имел случай видеть все университетские обряды и обыкновения и получить как о роде учения, так и обо всем ближайшее понятие. Что ж касается до помянутого профессора Ковалевского, славившегося в особливости тем, что живали у него в доме всегда и учивались многие пансионеры и не редко из самых знаменитейших прусских и других земель фамилий, то хотя бывал я у него и часто, но кроме холодного учтивства не видал от него ничего; да и находил, что он более был славен, нежели того достоин. Все учение его не имело в себе ничего чрезвычайного и особливого, а и самое смотрение за учениками и старание о просвещении их было весьма посредственное; а единую редкость и особливость в его доме нашел я только ту, что у него со всех бывавших до того и тогда бывших учеников списаны были живописные портреты и ими установлена целая комната: но и сие происходило ни от чего иного, как от единого любославия сего надменного и кичащегося тем человека; а впрочем нельзя сказать, чтоб все учащиеся у него получали от него многую пользу.
Другая достопамятность, случившаяся со мною около сего времени, была та, что повышен был рангом и пожалован из подпоручиков в поручики. Сей чин давноб я иметь мог, ежели б производство мое зависело от нашего генерала, но как я счислялся по армии и все еще в полку, то не можно было генералу ничего в пользу мою сделать, я и должен был ожидать всего от главных командиров армии и ждать, когда по линии и по старшинству мне в поручики достанется. Но как находился я от полку в отлучке и не состоял на лице в армии, то и не ожидал ни мало себе повышения, и всего меньше оного добивался, но как новый наш старичок фельдмаршал, будучи сам за победы от императрицы награжден и повышен чином, восхотел по возвращении своем из похода в Польшу оказать благодеяние и всем бывшим с ним в походе армейским офицерам и обрадовать их сделанием генерального, общего всем и большого произвождения, то при самом сем случае, против всякого чаяния и ожидания моего досталось и мне в поручики. И сообщено было о том во известие от полку к нашему генералу с повторительным опять требованием и просьбою об отпуске меня и отправлении к полку.
Повышение сие было хотя посему не чрезвычайное какое и не важное, но как чины давались тогда очень туго, да и я всего меньше оного ожидал, то и был я тем чрезвычайно обрадован. Г. Чонжин не преминул и при сем случае сыграть со мною шутку. Он узнал о том всех прежде, но как генерал запретил ему о том мне сказывать, желая сам обрадовать меня в последующее утро, то и восхотелось г. Чонжину надо мною позабавиться и приготовить меня к тому страхом и напуганием. Итак, не успел я в последующее утро приттить в канцелярию, как притворился он не только ничего о том незнающим, но еще сердитым и угрюмым, и призвав меня к себе в судейскую, сердитым голосом и видом мне сказал: "Что ты там наделал? генерал неведомо как на тебя сердится. Дошла на тебя к нему какаято от немчуров просьба; я теперь только у него в покоях был и он рвет и мечет, и посмотри, что тебе от него будет". Я остолбенел, сие услышав, и как за собою ничего не ведал, то и отвечал ему, что его превосходительству вольно со мною делать, что ему угодно, но я по крайней мере ничего такого за собою не знаю, чем бы мог заслужить гнев его. — "Совсем тем, подхватил он, подана на тебя какаято бумага. Я сам ее видел и писана она понемецки. Не знаешь ли ты чего за собою?" — Не знаю, сказал я, а разве вздумалось какому-нибудь бездельнику что-нибудь ложное на меня наклепать! — "Ну, вот посмотрим, генерал скоро сюда придет, и ты готовься только отвечать; а мне досадно только то, что случилось сие не к поре и не ко времени. Ты того не знаешь, что со вчерашним курьером получено между прочим вновь требование тебя в полк, и я истинно теперь уже не знаю, как нам тебя удержать; и боюсь, чтоб генерал в теперешней досаде на тебя не решился наконец отпустить тебя, так как он уже и намекал мне о том". — Воля его! сказал я; но признаться надобно, что сие последнее встревожило дух мой еще больше, и, по пословице говоря, на сердце у меня начали скресть тогда сильно кошки. Не имел я охоты и до того ехать в армию, а при тогдашних обстоятельствах и подавно не хотелось мне никак расставаться с Кенигсбергом.
В самую сию минуту вошли в судейскую наши советники, и г. Чонжин дал мне знак, чтоб я вышел вон. Я пошел, повеся голову, с побледневшим лицом и с таким расстроенным и смущенным видом, что все сотоварищи мои тотчас сие приметили и, окружив меня, стали спрашивать, что такое сделалось со мною? — "Что, братцы, с досадою сказал я им, какаято бестия, сказывают, подала на меня какуюто жалобу генералу, хотя я ничего за собою не знаю, не ведаю, а с другой стороны требуют опять в полк, и Тимофей Иванович сказал мне, что генерал, будучи теперь в превеликих сердцах на меня, более удерживать меня не хочет и решился отпустить". — Что вы говорите? закричали все в один голос, сие услышав, и сделавши вокруг меня кружок, начали все тужить и горевать обо мне; ибо надобно знать, что вся канцелярия меня искренно любила и все до единого брали в горести и досаде моей живейшее соучастие. Но не успели они друг перед другом наперерыв начать расспрашивать меня о том подробнее, как вдруг зашумели в судейской и сторож выбежал к нам оттуда с известием, что генерал идет. — В миг тогда рассыпались все, как дождь, от меня и, усевшись по местам своим, замолчали. Я пошел также на свое, за перегородку, но едва успел усесться и начать рассказывать о горе своем товарищам своим немцам, также о том любопытствующим, как загремел в судейской колокольчик и чрез минуту потом выбегает опять сторож, бежит прямо ко мне и говорит: "Извольте, сударь, к генералу!" — Я помертвел, сие услышав, и сердце мое во мне так забилось, и кровь взволновалась во всем теле, что я едва в состоянии был встать с места и, сколько в скорости можно было, пооправиться и изготовиться к ответу. С трепещущим сердцем, с побледневшим лицом и подгибающимися коленами пошел я куда меня звали, и как, при растворении дверей, издали уже увидел я генерала, держащего в руках бумагу и меня дожидающегося: то не сомневаясь нимало, что была та самая поданная просьба, о которой сказывал мне г. Чонжин, еще более от того встревожился духом, и в неописанном будучи смущении, едва был в силах войтить в судейскую и генералу поклониться. Я другого не ожидал, как того, что он в тот же миг на меня, по обыкновению своему, запылит огнем и пламенем и смешает меня совсем с грязью: но как удивился я, увидев тому противное, и что генерал без всякого сердитого вида, а только протянув ко мне руку с бумагою, и власно как еще с некаким сожалением, сказал: "Что делать, Болотов! требуют тебя опять в полк, и требования сии, чорт их побери, уж так мне надоели, что я не знаю уже, что мне делать, и решаюсь почти отпустить тебя; вот возьми прочти сам!" — "Воля ваша в том, ваше Превосходительство, в полк так в полк", — отвечал я, и стал подходить для принятия бумаги. Но как генерал, взглянув пристальнее на меня, увидел, что я с побледневшим лицом и крайне с беспокойным духом едва в состоянии был переступать ногами, то приняв на себя веселый вид и усмехнувшись, сказал мне далее: "Ну, добро, добро, господин Болотов, не беспокойтесь и не смущайтесь духом. Требовать вас хотя и требует, однако мы и в сей раз вас никак не отпустим, вы и здесь не баклуш бьете, а столькож государыне своей или еще более служите, нежели другие многие; а сверх того похвальным образом делаетесь еще и с другой стороны отечеству полезными". — Слова сии влили как некакой живительный бальзам в смущенное мое сердце, и меня столько ободрили, что я, сделав генералу пренизкой поклон, не хотелбыло и читать уже принятой от него бумаги; но он тотчас подхватил: "Однако прочтите, прочтите бумагуто и прочтите ее вслух нам; может быть нет ли в ней чего-нибудь еще иного".