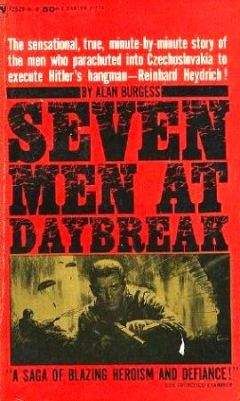Конечно, это оказалось нелегко. Все французские и английские порты были закрыты для пассажирского транспорта, а немецкие подлодки топили корабли. Но Петер посадил нас на поезд, идущий через всю Европу. Со мной была молоденькая шведка, присматривающая за Пиа. Из-за светомаскировки вокруг была кромешная тьма. Мы проехали Берлин, и там тоже суетились в темноте испуганные, похожие на привидения люди.
Итак, через Германию и Австрию на север Италии — в Геную. Итальянские лайнеры все еще пересекали Атлантику, идя к Нью-Йорку. Мы провели в Генуе ночь — 31 декабря 1939 года. Остановились в гостинице. Думаю, это был самый грустный Новый год в нашей жизни. Пиа исполнился всего год, она спала наверху с молоденькой шведкой. А Петер и я сидели внизу в гостиной, где постояльцы встречали Новый год.
Все шумели, танцевали, зная, что война у порога, и стараясь отгородиться от нее. Кто мог знать, что с ним случится в следующем Новом году? И мы танцевали, хотя нам было грустно. Мы тоже пробовали притвориться, что не замечаем маскировки, что не слышим, как летят в ночи бомбардировщики... Но мы знали об этом, и я подумала, что следующим утром я с Пиа уеду и, может быть, никогда больше не увижу Петера. Я уезжаю с его ребенком, а он пойдет на войну и может там погибнуть... О! Эти ужасные минуты!
Помню, как я стояла на палубе «Рекса» — громадного итальянского лайнера. Гудели пароходные сирены, люди что-то оживленно кричали, играл оркестр. И было что-то отчаянно грустное во всем этом — как будто внезапно разрывались наши жизни. Петер бежал вдоль причала, махал нам рукой. Я подняла Пиа на руки и потрясла в ответ ее ручкой. Казалось, мы больше не увидим друг друга. Мои слезы падали на голову Пиа.
На корабле я получила еще одну телеграмму от Дэвида Селзника, в которой говорилось, что по прибытии в Нью-Йорк я должна сказать прессе, что собираюсь играть Жанну д’Арк. Я была невероятно обрадована. Я всегда хотела играть Жанну. Не знаю, откуда у меня возникло такое желание, но, насколько я помню, мне всегда хотелось играть Жанну. На корабле была маленькая часовня. Я вошла в нее, опустилась на колени и сказала: «Благодарю тебя, господи. Наконец-то я смогу сыграть Жанну. Жанна, я надеюсь, что смогу рассказать о тебе правду».
Когда я сошла с корабля в Нью-Йорке, меня встретил рекламный агент от Селзника, который сказал шепотом:
— Не говорите слишком много о Жанне. Хорошо?
— Что вы имеете в виду? — спросила я.
— По крайней мере пока. Сейчас мы не будем снимать этот фильм. Позже мы вам все сообщим. А сейчас улыбнитесь и скажите, что вы отправляетесь в Калифорнию, где вас ждут съемки.
И Ингрид улыбалась, потому что она снова была в Америке, снова в Нью-Йорке, а она любила Нью-Йорк.
Интуитивно угадывая, что юная Ингрид Бергман — актриса, выходящая за рамки привычных представлений, нью-йоркская пресса тепло приветствовала ее возвращение в город.
«Представьте себе возлюбленную викинга, — писал Ёосли Краутер в «Нью-Йорк таймс», — вымытую душистым мылом, поедающую персики со взбитыми сливками из дрезденской фарфоровой чашки в первый теплый день весны на высоком морском утесе, и вы получите полное представление об Ингрид Бергман. Она спокойно сошла с парохода с Пиа, повисшей у нее на руке, и сказала репортеру, как само собой разумеющееся, что весь следующий день ей придется просидеть с Пиа в отеле, так как у девушки, присматривающей за беби, выходной день. В английском языке для мисс Бергман все еще есть проблемы. Конечно, она им усердно занимается. Во время разговора за ленчем она заколебалась, какое слово ей употребить: oldest или eldest[5]. Когда ей сказали, что годится и то, и другое, она с улыбкой отчаяния спросила: «Зачем вам тогда нужны оба?»»
Они не хотели, чтобы я приезжала в Калифорнию. Им нечего было мне предложить. Дэвид Селзник был занят войной, и они решили, что мне лучше, пожалуй, какое-то время оставаться в Нью-Йорке. На два-три месяца там вполне можно было найти какие-то занятия. Я могла ходить по театрам. Могла водить Пиа в зоопарк... Как раз в те дни у Кей, которая знала, что я схожу с ума, когда нет работы, раздался звонок. Это был продюсер Винтон Фридлей. В пьесе под названием «Лилиом», сообщил он, есть роль, которая могла бы меня заинтересовать. Главную роль должен был играть Бёрджесс Мередит. Мне ничего не сообщили о роли, просто прислали текст. У меня тогда не было большого опыта игры на сцене; в течение двух недель, в перерывах между съемками, я играла в стокгольмском «Комеди Тиэтр» и получала хорошие отзывы, а в 1937 году группа шведских актеров и актрис сняла театр «Оскар», где поставила комедию венгерского драматурга Бус-Фекете. Спектакль держался два месяца. Но на английском-то я никогда не играла на сцене. Я спросила Кей: «Что делать?»
«Возьмем учителя, — сказала она. — Но, конечно, за одну ночь тут не обернешься». Я прочитала пьесу и немного удивилась. Второй героиней была Мари, молоденькая, забавная, вечно смеющаяся толстушка, подружка возлюбленной Лилиома — Джулии. Я перезвонила Винтону Фридлею.
— Думаю, вы сделали ошибку. Я недостаточно весела и толста для этой роли... У меня совершенно другой тип...
— Весела и толста? — спросил он. — О ком вы говорите? Джулия совсем не толстая и не веселая.
Я чуть не уронила трубку.
— Джулия! Вы хотите, чтобы я играла Джулию, главную роль?
— Ну разумеется, — сказал он.
— Тогда вам придется снова прислать мне пьесу, — сказала я. — Так как я читала совсем не ту роль. Но вы знаете, что мой английский еще очень слаб?
— Выучите. Возьмите учителя.
Я согласилась и взяла нового учителя, мисс Руни, потому что Рут Роберто была занята в Калифорнии.
Она писала Рут Роберто:
«Происходят грандиозные события. Ты не думаешь, что история с «Лилиом» — это слишком прекрасно, чтобы быть правдой? Кей прелесть! Вчера звонил Дэвид. Бедняжка, он не мог бороться с нами обеими — двумя сильными женщинами — и сдался. Он сказал «да», и теперь я буду это играть!!! Я так счастлива. Рут. Мне нравится пьеса. Так замечательно снова быть на сцене. Конечно, я страшно трушу, но от радости забываю об этом. Я помню о Жанне, но сейчас думаю постоянно только о Джулии. Надеюсь, Дэвид сразу займется «Жанной» и не будет больше думать ни о каком другом фильме.
Премьера должна быть 24 мая. Если публика пойдет, то будем играть 6—8 недель».
Оба — и Джек Уитни, и Кей — слегка волновались за мой голос, поэтому однажды они пришли немножко пораньше в театр, сели на галерке и крикнули: «Ну-ка, скажи что-нибудь из роли». Я сказала. «Прекрасно, — решили они. — Тебя слышно отлично».
Вскоре прибыл Винтон Фридлей и слегка изумленно спросил: