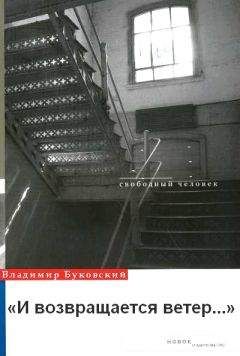К старой учительнице русского языка был у нас подход совершенно особый. Она была уже глубокой старухой, глуховатой, сентиментальной, и обожала птиц. Поэтому, как только начинался урок, кто-нибудь из нас начинал, аккуратно так, посвистывать по-птичьи. «Ах, — умилялась она, — скоро весна, детки, птички поют». Какое там весна, дура старая, — на дворе декабрь! Но это было только начало. Тотчас же кто-нибудь другой заявлял под птичий пересвист: «А я рогатку сделаю и буду их стрелять». Тут же русский язык и кончался — начиналась лекция о птичках: какие они полезные да как нехорошо их убивать. И удивительно, не надоедало нам каждый день слушать эти птичьи лекции. Главное же — урок проходил, никого не спрашивали, домашних заданий не проверяли.
Большинство же учителей были жестокими, бездушными машинами, беспощадно нас притеснявшими. Лучший пример — сам директор, здоровенный двухметровый детина. Он даже старшеклассников, ребят по 16–17 лет, бил по лицу публично, а уж младших-то затаскивал к себе в кабинет и там расправлялся нещадно. И все терпели — здоровые ребята сносили публичные пощечины. Только мы не стерпели, и, когда он побил кого-то из нашего класса, мы, человек пятнадцать, зашли к нему в кабинет после уроков, когда в школе почти никого не осталось. Было нам лет по 14, а некоторым и больше, страха мы не ведали, вид у нас был весьма внушительный. Мы очень быстро отключили телефон, когда он попытался вызвать милицию, и объяснили, что легко отключим и его самого, если он еще кого-нибудь из нас тронет. Поверить в это, зная тогдашнюю московскую атмосферу, было нетрудно. Он как-то сник и с тех пор обходил нас стороной.
Пожалуй, единственный человек, пользовавшийся у всех ребят уважением, был преподаватель английского языка. Это был человек небольшого роста, со шрамом на лбу и удивительным умением внушать страх. Одевался он чрезвычайно плохо и, видимо, сильно нуждался. Вообще было в нем что-то трагическое. Говорили, что он был ранен на фронте и вроде даже в плену побывал. Во всяком случае, зрение у него было повреждено как-то странно: видеть он мог или совсем вблизи, буквально водя носом по странице, или вдали, в конце класса. Середины же не видел — это проверялось много раз, но никто не осмеливался пользоваться его слабостью. Он входил в класс стремительно, как-то боком, на ходу открывая журнал: «Whom shall I ask, whom shall I ask, whom shall I ask at first», — говорил он зловеще, двигая носом по журналу, и наступала гробовая тишина. «Мамочки, только б не меня!» — молился каждый. И ведь никого не бил, а все учились, даже самые ленивые, даже второгодники. Он был какой-то загадочный и оттого страшный.
Впоследствии, когда я перешел уже в другую школу, я даже нашел его адрес и несколько раз был у него дома. Жил он действительно совершенно нищенски, но это меня нисколько не разочаровало — напротив, я чувствовал в нем необычного человека и тянулся к нему. Поражало его умение общаться как бы на равных, хотя мне было тогда лет 15, а ему лет 45. Это тем более поражало, так как я знал, каким недосягаемым и страшным был он в классе. Однажды я застал его слушающим приемник, но он тотчас же его выключил, и я понял, что слушал он не московское радио. Но разговора об этом не было. В другой раз попросил он меня переснять какую-то фотографию. Я тогда занимался фотографией, но фотоаппарат у меня был самый дешевенький, не приспособленный для этих целей. Я возился целый месяц, усовершенствовал свой аппарат, изучил оптику по учебнику старшего класса, рассчитал линзы, сломал ограничитель, отвернул объектив за дозволенный лимит, но фотографию ему сделал лучше любого ателье. Я и мысли не допускал, что могу не выполнить его просьбу.
Потом мы как-то растеряли друг друга. Прошло много лет, КГБ уже собирал материал на меня, а я об этом знал, как вдруг он нашел меня сам через кого-то из моих бывших школьных сотоварищей. Мы встретились на улице, и он объяснил мне, что в школу приходили из КГБ, собирая обо мне сведения. «Я не знаю, в чем дело, и не интересуюсь, — сказал он, — просто хотел тебя предупредить, чтобы ты знал». Мы расстались, и больше я не встречал его, а жаль, человек был явно особенный, редкий.
Но, пожалуй, только два эпизода из моей школьной жизни вспоминались мне теперь чаще всего, два самых постыдных и мучительных эпизода. Один из них связан с моим пребыванием в пионерах.
Принимали нас в пионеры почти всем классом, было нам по восемь лет, и согласия у нас никто не спрашивал. А просто объявили, что такого-то числа будет прием в пионеры и примут самых достойных. В назначенный день нас повели в Музей Революции, благо был он за углом, на улице Горького. Выстроили в одном из залов, торжественно внесли знамя, и каждый из нас должен был произнести клятву перед знаменем: «Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что буду твердо стоять, за дело Ленина — Сталина, за победу коммунизма», и так далее. Затем каждому надели красный галстук, забили в барабан, заиграли в горны, а распорядитель всей церемонии, стоя у знамени, провозгласил: «Юные пионеры! К борьбе за дело Ленина — Сталина будьте готовы!» — «Всегда готовы!» — хором ответили мы, и на этом церемония окончилась.
В сущности, я ничего не имел против того, чтобы быть пионером. Дело это самое обыкновенное: подходит твой возраст — становишься пионером, потом комсомольцем, а затем и членом партии. На моих глазах так было со всеми, примерно так же, как переходят из класса в класс. Дальше, однако, все оказалось хуже. Регулярно проводились пионерские сборы, какие-то смотры и линейки, и в то время, как счастливчики — непионеры шли себе домой, гулять и развлекаться, мы должны были париться на сборе и обсуждать какие-то скучнейшие вопросы успеваемости и поведения, проводить политинформации и так далее. Учителя и воспитатели при каждом случае начинали тебя упрекать: ты же пионер, ты должен больше слушаться, не делать того и сего. И всем нам давались общественные поручения: выпускать стенгазету, делать доклады, подтягивать отстающих, а главное — воспитывать других и друг друга, прорабатывать двоечников и нарушителей дисциплины. То есть, сами того не заметив, мы оказались — в нашей традиционной вражде учеников и учителей — на стороне учителей, что было противоестественно и как-то подло. С точки зрения класса, это было предательством.
Получалось какое-то раздвоение: с одной стороны, как и весь класс, мы дразнили учителей и старались на уроке сделать им шкоду, с другой стороны, на сборах мы должны были осуждать тех, кто это делал, должны были доносить на них публично. Некоторые из нас таким образом становились просто ябедниками и возбуждали всеобщую ненависть. Большинство же лгали и лицемерили, притворялись, что ничего не знают и не видят. Все мы, однако, должны были осуждать нарушителей.