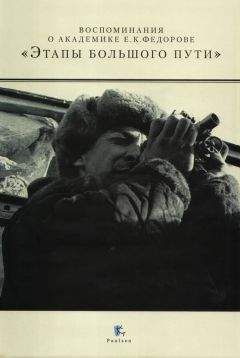Он кричит, наверное, уже минут десять. Останавливается только, чтобы перевести дух и отхлебнуть глоток воды из стакана. И все продолжают стоять, как в столбняке.
Не знаю, сколько бы времени это еще продолжалось, если бы на столе не зазвонил телефон. Он берет трубку, и вдруг его облик преображается. Он как будто подрастает, почтительнейше изгибается в сторону телефонной трубки, лицо разглаживается, даже начинает вроде как бы светиться.
— Есть! Так точно! Когда прикажете? Есть, иду!
Опустив трубку, он с несошедшим с лица благоговением обводит подчиненных отсутствующим взглядом и с глубоким сознанием собственного достоинства (скорей, собственной ценности) объявляет: «Хозяин зовет!»
(Значит, и над ним есть «хозяин»)!..
Потом капает из пузырька в маленький стаканчик капли (сердечные, вероятно) и тщательно их отсчитывает, шевеля губами. Все застыли в молчании. Обо мне он, наверное, и вовсе забыл.
Нет, вспомнил:
— В камеру! — опять орет он прежним фальцетом. — В камеру! В подвал!
Он поднимается, и всё приходит в движение. Часть присутствующих как при спектакле окружает его, как окружают примадонну, когда занавес опустился, другие выходят, и с ними выхожу я. На этот раз даже без специального конвоя, а может быть, я его просто не вижу — я плохо вижу и еще меньше соображаю.
Я иду между моей следовательницей и пожилым, довольно полным следователем, который часто сидит в комнате Марии Аркадьевны и подбрасывает реплики при моих допросах.
— Вы видите, Фёдорова, что Мария Аркадьевна, — он кивает на нашу спутницу, — не может занести в протокол ваши показания о «шутке» — это просто невозможно. Это оскорбляет органы. Вы же неглупый человек, вы должны понять это! В конце концов, вы только затягиваете дело, мучите себя и нас. И ваших родных.
— Евгения Николаевна, — говорит мне следовательница, опускаясь на какой-то стул и называя меня в первый и последний раз по имени-отчеству, — Евгения Николаевна, вы же видите, что вашу версию я не могу внести в протокол.
Голос ее тоже совершенно другой — ее как подменили. Перед лицом «самого» мы как будто стали, обе, провинившимися сообщниками. Я — потому что затягиваю следствие, она — потому что не может самостоятельно добиться его окончания. Вероятно, по графику дело давно должно быть уже закончено.
Голос ее вкрадчив, дружелюбен и почти просителен:
— Вы же понимаете?
Да, я понимаю. Я понимаю, что сопротивление бесполезно. И уж лучше гибнуть мне, чем тянуть за собой маму и Юрку — моих «сообщников». Видя, что я все еще колеблюсь, Мария Аркадьевна подбрасывает мне последнюю подачку:
— По-вашему, вы сказали в шутку. Но мы не можем это так расценить и записать, как «шутку». Мы запишем в той редакции, в какой мы понимаем ваше высказывание. На суде вы объясните, как считаете вы — это ваше право. Да нет, вот даже сейчас — я дам вам бумаги сколько хотите, и вы, не торопясь, напишете, изложите все, как вы находите нужным. Мы присоединим к делу. А пока, пожалуйста, подпишите протокол, из-за которого мы с вами потеряли столько времени.
Она суёт мне в руки авторучку и услужливо протягивает папку с протоколом.
— Вот здесь. Подпишите. Отлично! Теперь садитесь за тот стол, там свободно. Вот бумага, — она кладет передо мной стопку чистой бумаги, — пишите. Не торопитесь, — еще раз любезно напоминает она мне, звонит и велит подать чаю.
В камере я прихожу в себя и ужасаюсь своей глупости и наивности. Как будто это мое писание могло иметь какой-нибудь смысл, какую-нибудь цену!
Да и будет ли оно приложено к делу? Было ли? Этого я не знаю и посейчас. Думаю, если оно и было приложено, то только для того, чтобы лишний раз хохотнуть над наивной девчонкой, попавшейся, как муха в паутину.
Вскоре, вызвав меня и небрежно полистав страницы ставшей довольно пухлой папки, Мария Аркадьевна объявила, что следствие по моему делу закончено. Я не знала, и предположить даже не могла, что я имею право ознакомиться с содержанием дела, взять в собственные руки эту папку и рыться в ней сколько угодно, хоть до самого утра; о таком праве следовательница мне не сообщила, а я — откуда же я могла знать?
Даже о том, что на этой папке стоят «вещие» слова — «хранить вечно» — я узнала только через 20 лет после суда, когда была реабилитирована и снова видела эту папку, но и тогда — в чужих руках. Она прилежно хранилась в архивах Военного Трибунала, вероятно, хранится и до сих пор — ведь вечность еще не кончилась.
Ничего этого я не знала и послушно подписала, что с делом «ознакомилась». Единственный вопрос, который я задала с трепетом и надеждой — вызовут ли меня на суд? (Еще от Маруси я слышала, что бывает «заочный» суд, просто «постановление»). Мне казалось, что на «очном» суде все же есть какой-то шанс оправдаться, заставить себя выслушать: не может быть, чтобы все не поверили, когда говоришь правду! Не может этого быть!
— Вызовут, вызовут! — со злорадным ехидством пообещала мне Мария Аркадьевна. Она-то хорошо знала, что «Тройка» или «Особое совещание» могут дать — по тогдашним временам — только три, самое большее — пять лет.
Мое же так складно и удачно оформившееся «террористическое дело» подлежит ни много, ни мало суду Военного Трибунала, что сулит мне десятку, если не «вышку».
Вскоре после этого меня перевели в Бутырки, где я и провела еще два месяца в ожидании суда.
Глава III
‘У вас была хорошая светлая камера’
В Бутырках арестованные прежде всего попадали на «вокзал». Это было огромное помещение, действительно напоминавшее железнодорожный вокзал. По величине, гулкому резонансу, сводчатым потолкам с какими-то перекрытиями — настоящий вокзал! И отсюда, как с настоящего вокзала, отправлялись этапы заключённых во все концы нашей необъятной родины.
Сюда же прибывали небольшие партии, которые постепенно собирались в новые этапы и отправлялись по назначению.
Этапы долго стояли, пока зэков выстраивали по четыре, проверяли по формулярам, последний раз перетрясали нехитрые пожитки.
Но когда в Бутырки привозили одиночек, они на «вокзале» не задерживались. Их моментально запирали в «собачниках», двери которых тянулись одна за другой вдоль длинных стен «вокзала». В такой «собачник» посадили и меня.
Дело, конечно, было ночью. Только на этот раз, когда за мной пришли — еще там, на Лубянке, — я не обрадовалась приказу «собраться с вещами». Я уже понимала, что это — только в другую камеру, или еще куда-нибудь «по делам». Но на этот раз меня вывели во двор, где уже ожидал «воронок» готовый к отправлению.