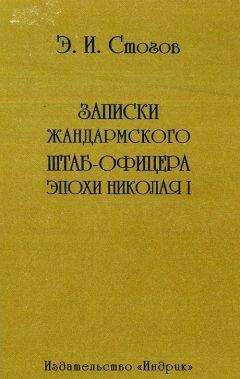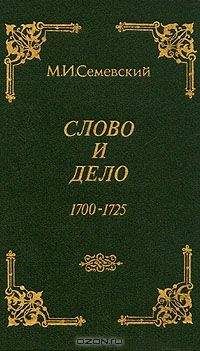— Прекрасно, а солнце, а луна?
— Солнце есть отверстие большое, но заслоненное полупрозрачным телом, и потому передает нам только часть того света, иначе все погибло бы на земле. Луна есть холодное, мертвое тело, не имеющее огня, воды, атмосферы, а потому и жизни; луна есть материал для будущей планеты.
— Вы думаете?
— Мы, новые, признаем для грешников мучения преисподней; где она — я не знаю, но мой разум допускает, что душа умершего, как эфир воспаряя, приближается к ледяной коре; праведные допускаются проникнуть в высший свет для блаженства, а грешные терзаются по сю сторону мертвой ледяной коры.
— Браво, ваша система не забыла и разрешает о делах и душах людей.
Приплел рай и ад — помня, что говорил с поповичем. В этом роде продолжался разговор — с моей стороны серьезно; Сперанский тоже не улыбался, а как бы одобрял. Я путал все, что знал из физики — электричество, магнит. Между многими вопросами смело разрешил северное сияние, доказывая, что без этого магнитно-электрического процесса земля была бы необитаема от испорченности воздуха на экваторе. Сперанский, выслушав о северном сиянии, сказал:
— Скажите, как это просто, а я думал, что этого никто не знает.
В соседней комнате подали огонь; Сперанский подал мне руку и сказал: — Когда вы ничем не заняты, побывайте у меня, но только помните, к Михаилу Михайловичу в мундире не ходят. Прощайте, благодарю вас, меня зовут работать.
Когда я болтал галиматью, часто взглядывал на Сперанского, ожидая увидеть улыбку, но он, ходя мерными шагами, серьезно слушал. Сперанский был в стареньком сюртуке с очень узкими рукавами, верно — старинная мода.
Хотя я тогда штатских уважать не мог, но мне казалось, не пересолил ли я, так много и глупо болтая? Приехав домой, я до слова записал и в тот же вечер был у Батенкова; рассказал и прочитал записанное; мы вместе с Гаврилой смеялись. Я спросил его, не очень ли я наглупил и что меня немного беспокоит. Батенков успокоил меня, сказав, что Сперанскому все можно говорить, он даже любит слушать болтовню веселонравных.
— Да что тебе вздумалось излагать свою систему мира?
— Мне показалось, что он хочет дурачить меня, я сказал небольшую шутку, да как начал говорить, а он поддакивать, то и нагородил чушь!
Я спросил Гаврилу, не знает ли, какую книжку читает Сперанский?
— Он очень любит и постоянно читает Фому Кемпийского.
На другой день Батенков только явился к Сперанскому, как тот начал смеяться, рассказывая о моей болтовне. Сперанский полагал, что я серьезно увлекаюсь своей системой. Батенков разуверил его и сказал, что я беспокоюсь, не слишком ли наглупил.
— Бойкое молодое воображение; мне нравится, он смелый юноша!
Батенков объяснил, что я, как моряк, уважаю только адмирала — остальные чины не существуют.
— Правда, моряки всегда держат себя особенно, сдержанно, но время и жизнь научат его.
Для меня слова пророческие!
Чтобы быть последовательным, я запишу и вторые сумерки у Сперанского. Дней через пять или семь после первых сумерек явился тот же ординарец и сказал: «Пожалуйте, к Михаилу Михайловичу». Я надел виц-мундир, без сабли, в фуражке; явился поранее в ту же залу. Сперанский так же ласково спросил, не занят ли я, и сказал: «Походимте».
— Где ваша родина?
Я отвечал.
— Имеете родных в Петербурге?
Я назвал Анну Петровну и Ивана Петровича Буниных.
— Это девица-поэт?
— Точно так, она мне тетка.
— Бунин — это весельчак?
— Действительно он.
— Тетку вашу я встречал в обществе, а о дяде вашем много забавных рассказов.
— Он был тоже моряк.
— Где вы прежде учились?
— Я нигде не учился, умел только читать, а подписывал прошение в корпус по карандашу. Тетка меня отвезла в Петербург, а дядя, как моряк, определил.
— Долго ли вы пробыли в корпусе?
— Семь лет.
— И успели кончить полный курс? У вас наук много?
— Мы каждый день сидим в классах восемь часов и вне классов учим уроки.
Сперанский хотел знать малейшие подробности о порядках в корпусе, о начальстве, об обращении, о наказаниях, об обязанности офицеров, о пище, даже об играх кадет, об экзаменах. Сперанский, заметив, что я говорю о корпусе восторженно, с любовию:
— Вы любите корпус?
— Я всегда с благоговением вспоминаю Морской корпус!
— Так весело вам было в корпусе?
— Нет, ваше высокопревосходительство, корпус дал мне нравственное бытие, я обязан корпусу всем: я поступил в корпус — диким волчонком, а вышел человеком, воспоминания о корпусе для меня священны. Начальники были благодетели — отцы к детям.
— Это делает вам честь. Но пока вы в корпусе, для вас внешняя жизнь не существует?
— Напротив, мы знаем все, что делается, что говорится в городе.
— Каким это образом?
— По субботам и праздникам нас отпускают к родным и знакомым; нас много, нас, как детей, не остерегаются. Когда мы возвращаемся в корпус и рассказываем слышанные новости, мы своим критическим умом противоречия подводим к общему знаменателю и делаем свои заключения.
— Обо мне что-нибудь говорили у вас?
— Как же, и очень громко.
— Что же?
— Да я вас повесил.
— Как так?
— Так, вырежу из бумажки человечка, один конец нитки на шею, а другой конец заверну в кусок жеваной бумаги, брошу в потолок; мокрая жеваная бумага прилипнет и человечек висит с подписью: «Сперанский изменник».
— За что же вы меня вешали?
— Говорили, что вы передали Наполеону великие секреты государя и подписали какую-то бумагу.
— Так вы такие патриоты в корпусе?
— Да, мы очень любим государя.
— А Россию?
— Да как любить, чего не знаешь; вот я еду более года и все Россия, я и теперь ее не знаю.
— Как вы решились ехать в такую даль?
— В Кронштадте нехорошо жить, нас очень много. Я подумал: если в Камчатке не найду лучшего, то найду новое — все-таки выигрываю.
— Смелая посылка!
— Да когда же и искать, как не в мои годы?
— Вы правы.
Подали огню; Сперанский поблагодарил, я откланялся.
Иркутск веселился напропалую, казалось, никто ничего не делает, а Сперанский меньше всех: обед, бал — Сперанский непременно везде присутствует; служащие при нем, кажется, затем и приехали, чтобы праздновать, — только никто не видит Цейера и канцелярских, да долго по ночам освещен весь дом Сперанского. Не слыша служебного слова и не видя дел — дом Трескина постоянно пустел; дом, недавно сцентрировавший в себе всю жизнь Иркутска, — стал как зачумленный, хотя Трескин продолжал быть губернатором. В обществе не было о нем ни полслова.