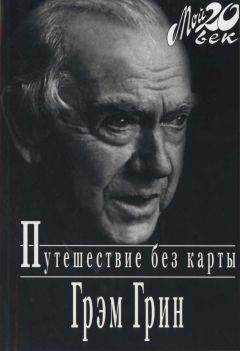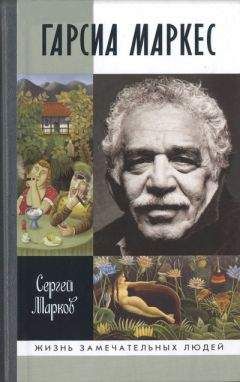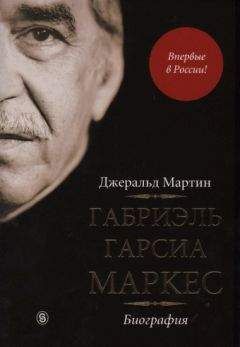— Еще трубку? Помнишь то ужасное стихотворение, которое ты написал в Оксфорде — об отбивной?
Конечно, помню, я тогда был влюблен.
— За это многое можно простить, — сказал он, — в том возрасте.
Печатается с сокращениями
Граница — это больше, чем таможня, чиновник, проверяющий ваш паспорт, солдат с ружьем. Там, по другую сторону границы, вас ожидает новый мир, и с жизнью сразу что‑то происходит, как только вам проштемпелюют паспорт и вы, ошеломленный и безгласный, оказываетесь среди менял. Тот, кто отправился на поиски красот природы, воображает себе дивные леса и сказочные горы; романтик думает, что женщины в чужом краю красивей и сговорчивей, чем дома; несчастный верит в новый ад, а тот, кто путешествует в надежде встретить смерть, ждет, что она его настигнет на чужбине. Здесь, на границе, все как будто начинается сначала, она сродни чистосердечной исповеди — счастливый, краткий миг душевного покоя между двумя грехопадениями. О смерти тех, кто умер на границе, обычно говорят «счастливая кончина».
Лавки менял составляют в Ларедо целую улицу, сбегающую вдоль холма к мосту, принадлежащему двум странам; по другую его сторону, в Мексике, они карабкаются вверх на холм точно такой же улицей, только немного более грязной. Что побуждает путешественника остановиться перед тем или иным менялой? Одни и те же цены были выведены мелом на всех лавчонках, спускавшихся к небыстрым бурым водам реки: «1 доллар — 3 песо 50 сентаво». Турист, должно быть, выбирает по лицу, но тут и лица были одинаковы — лица метисов.
Я думал, что подсяду здесь в попутную машину, что в Мексику течет поток автомобилей с американскими туристами, но их тут не было совсем. Казалось, жизнь давала себя знать лишь в виде громоздившейся у волнореза кучи пустых жестянок и истоптанных ботинок, из‑за чего вы сами ощущали себя чем‑то вроде наносной породы. В Сан — Антонио меня уверили, что в Ларедо легко найти машину и перебраться на другую сторону; таможенный чиновник, чья будка находилась рядом с въездом на мост, сказал, что это правда, он знает совершенно точно, что из Сан — Антонио поедет мексиканец «на роскошной немецкой машине», и он, конечно, подвезет меня до Мехико за два — три доллара. И потому я ждал и ждал, а мексиканец все не появлялся, не думаю, что он вообще существовал на свете, хотя не знаю, кому я здесь был нужен, — ведь это мое прозябание не приносило денег никому из местных.
Каждые полчаса я спускался к реке и глядел на Мексику. Казалось, там все было так же, как и здесь: лавки менял, взбегавшие на холм под жарким солнцем, кучка людей, собравшихся у въезда на мост, намытые водой наносы у другого волнолома. Наверное, эти люди говорили: «Из Монтеррея в Нью — Йорк едет американец в роскошной немецкой машине, он и подбросит вас за два — три доллара», а кто‑то наподобие меня стоял в Рио — Гранде, смотрел на лавки с нашей стороны и думал: «Там, за мостом, лежат Соединенные Штаты» — и поджидал несуществующего путешественика. С таким же чувством человек глядит на собственное отражение в зеркале.
Я говорил себе, что за мостом находятся великие надгробия истории: Чичен — Итца, Митла, Паленке — все то, чем Мексика притягивает археологов; яркие пледы, шляпы — сомбреро, серебро из Таско, манящие туристов; реликвии Кортеса и конкистадоров, которые так интересны для историков; фрески Ороско и Риверы ждут искусствоведов, а бизнесменов привлекают нефтяные скважины Тампико, серебряные рудники Пачука, кофейные плантации Чьяпас, банановые заросли Табаско. Все говорят, что в Мексике за доллар можно купить много всякой всячины.
Я вернулся на площадь и купил газету, но в этот день мне не везло ни в чем: весь номер отдан был на откуп старшеклассникам, которых пригласили быть редакторами и корреспондентами, они заполнили колонки городскими пересудами и толками, подслушанными в школьных коридорах. Вы полагаете, что это были нетерпеливые, настроенные радикально юноши и девушки? О нет, нимало. Банальные суждения старших — нередко плод открытий младших. Женева… демократия… народный фронт… угроза фашизма. Все это можно было узнать и в Альберт — Холле, а новостей о Мексике здесь было несравненно меньше, чем в нью — йоркских изданиях. Там говорилось о сражении на границе возле Браунсвилла, какой‑то человек, которого все называли генерал Родригес, собрал вокруг себя испытывавших недовольство фермеров, чьи земли отошли к индейцам вследствие аграрной реформы, и организовал фашистский отряд «золоторубашечников». Нью — йоркские газеты отправили туда своих корреспондентов, один из них в такси проехал от Браунсвилла до Матамороса и обратно и сообщил, что не видал сражений, но наблюдал волнения. Он написал, что как‑то раз заметил за стеклом суровое и жесткое лицо — дело было в пустыне, — за беспорядками следил какой‑то незнакомец. В Нью — Йорке мне сказали, что у Родригеса стоит на границе с Техасом сорок тысяч хорошо обученных повстанцев и, если я не увижу Родригеса, я не увижу ничего.
Вы быстро привыкаете к тому, что в Мексике вас всюду ждут разочарования. Так, в городе, который показался вам прекрасным в сумерки, при свете дня видна разруха, дорога неожиданно кончается, погонщик мулов так и не приходит, великий человек ведет себя непостижимо молчаливо при знакомстве, и вас так утомляет долгая дорога, что, наконец добравшись до прославленных руин, вы не способны ими любоваться. Так было и с Родригесом — до встречи дело не дошло.
Предыдущую ночь я провел в Сан — Антонио. Это Техас, но Техас, который отчасти Мексика, отчасти — Уилл Роджерс. Когда я ехал в поезде из Нового Орлеана, мой попутчик — техасец все время говорил голосом Уилла Роджерса: тягучий говорок коммивояжера и благодушная расчетливость провинциала. Всю ночь он сыпал поговорками, исполненными ложной доброты и плоской мудрости — той пошлой философии, которую охотно поставляет «Метро — голдуин». Ему вторил метис в яркой рубашке в крапинку с непроницаемым лицом, не обращавший ни малейшего внимания на собеседника и отвечавший ему невпопад, почти не отрываясь от карманной фляги.
Коричневые, выпуклые пустоши тянулись по обеим сторонам вагона, на горизонте вспыхивала нефть, словно огонь на жертвеннике пирамиды, а рядом Старый Свет и Новый Свет вели беседу. Общение — то единственное, что неизменно предлагает вам дорога. В пути так много утомительного, что людям нужно выговориться, они и выговариваются в поезде, у пламени костра, на пароходе, дождливым днем под пальмами гостиничного дворика. Необходимо как‑то убить время, а это можно сделать только с помощью себе подобных. Словно герои Чехова, они теряют всяческую сдержанность — порой вы можете услышать самые интимные признания. И возникает впечатление, что в мире обитают только чудаки и представители диковинных профессий, чья удивительная глупость сочетается с немыслимым терпением, как видно, для того, чтоб соблюдалось равновесие.