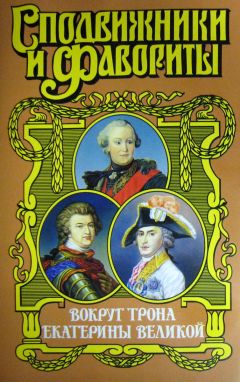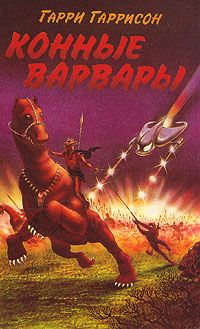Возмущённо зароптали не только союзники — сама Елизавета, российская императрица, приняла отступление Апраксина за измену. Фельдмаршал был арестован, и не помогли его ссылки на то, что армия раздета и разута, а союзники не выполнили своих обещаний, тысячи солдат мрут не от прусских ядер и пуль, а от элементарного голода, нечем кормить солдат, нечем их одеть и обуть.
Но кому когда было дело до русского солдата, его лишь посылали воевать за чуждые России интересы, а о нём самом нимало не заботились. Всегда русский солдат был только пушечным мясом, которым Россия расплачивалась со своими союзниками.
Вот и теперь Елизавета даже не стала слушать слёзных оправданий Апраксина. Он был посажен в тюрьму, а вместе с ним арестовали и всесильного канцлера Алексея Петровича Бестужева.
Сильное волнение и настоящий страх испытала Екатерина, когда узнала, что арестован человек, который предлагал ей союз и поддержку, который написал для неё указ об изменении престолонаследия. Узнай императрица об этом указе, не миновать грозы — немедленно сослала бы она Екатерину в монастырь, обвинив в измене и заговоре. Слава Богу, вздохнула облегчённо великая княгиня, когда через верного человека получила от арестованного Бестужева записку, что он успел сжечь текст манифеста. Остального Екатерина не боялась. Несколько писем, адресованных ею Апраксину, не содержали ничего изобличающего её — там были лишь поздравления по случаю именин и незначительные новости светской жизни.
И потому Екатерина появилась при дворе оживлённой, общительной, с гордо поднятой головой и принялась смело расспрашивать тех, кто уполномочен был вести дело Апраксина—Бестужева. Это были всесильные камергер и нынешний фаворит Елизаветы Шувалов, граф Бутурлин и князь Трубецкой.
Именно к последнему и подошла Екатерина на балу, который был дан при дворе по случаю помолвки Льва Нарышкина. Весело и непринуждённо спросила она Трубецкого:
— Что означают эти милые слухи, дошедшие до меня?
Улыбка её сохраняла полнейшее спокойствие и самоуверенность, а глаза блестели от сознания опасности, предотвращённой ею же.
— Нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений? — продолжала Екатерина.
Князь Трубецкой в замешательстве стал что-то бормотать о том, что они только выполняют приказ императрицы, что его долг как раз и состоит в том, чтобы выполнять волю императрицы, и между этими невнятными извинениями он выболтал, что преступлений ещё не нашли, хоть и допросили преступников, скорее — предполагаемых преступников...
Екатерина, смеясь, отошла от Трубецкого. Бутурлин был ещё короче Трубецкого. Он без обиняков рассказал Екатерине, что Бестужев арестован и допрошен, но за что его арестовали, никто ещё так и не выяснил.
Она снова стала спокойной и ещё более весёлой. Недаром в её глазах всё ещё стояла записка от Бестужева, которому удалось передать её Екатерине при посредстве голштинского министра Штамме:
«Не беспокойтесь насчёт того, что знаете. Я успел всё сжечь...»
То, что было сожжено, более всего тревожило Екатерину, но раз оно сожжено, никакой опасности нет, а её письма к Апраксину — мелочь, на которую не стоит обращать и внимания, хоть и бормочет потаённо австрийский двор, что лишь письма Екатерины к нему были следствием остановки боевых действий в армии.
Она-то знала, что в её письмах, если они всё же будут обнаружены, нет ничего, что можно было бы признать даже за простую игру в политику...
Во время следствия над Бестужевым французский посол маркиз Лопиталь доносил своему королю:
«Первый министр (Бестужев) нашёл средство соблазнить великого князя и великую княгиню настолько, чтобы они убедили Апраксина не действовать так быстро, как то приказывала императрица. Эти интриги велись на глазах императрицы. Но так как её здоровье было тогда очень плохо, она только о нём и думала, между тем как весь двор поддавался желаниям великого князя и в особенности великой княгини, вовлечённой в дело ловкостью английского посла Вильямса и английскими деньгами, которые этот посол передавал ей через посредство Бернарди, своего ювелира, признавшегося во всём. Великая княгиня имела неосторожность, чтобы не сказать смелость, написать генералу Апраксину письмо, в котором освобождала его от клятвы, данной ей, удерживать армию и разрешала привести её в действие. Господин Бестужев показал однажды это письмо в оригинале г. Бюкову, уполномоченному императрицы-королевы (Марии-Терезии ), приехавшему в Петербург с целью поторопить операции русской армии. Тогда тот почёл своим долгом доложить об этом графу Воронцову, камергеру Шувалову и графу Эстергази...»
Это письмо Лопиталя, как всегда, попавшее на стол Елизаветы, не содержало в себе и зерна правды — таким образом Лопиталь хотел добиться не только падения Бестужева, но бросить тень и на Екатерину.
Но и Воронцов, мечтающий о кресле Бестужева, и Шувалов, укрепляющий своё влияние при императрице, глухо намекнули Елизавете о плане Бестужева передать бразды правления Екатерине после смерти Елизаветы, которая должна была подписать этот указ, и утверждали, что в бумагах Бестужева непременно найдётся этот документ — шпионы доносили им о всех его бумагах, и документы, касающиеся безопасности самой Елизаветы, обязательно должны быть найдены в его архиве...
Екатерина понимала, как сплачивается при императрице кружок лиц, враждебный ей. Ставший канцлером Воронцов мечтал о том, чтобы его дочь Елизавета стала женой Петра, и потому при каждом удобном и неудобном случае поносил великую княгиню. Пётр не оставался в долгу и теперь, не имея надобности в любезности Екатерины после отъезда Понятовского, тоже не уставал нашёптывать тётке, как зла и упряма его жена, как желает он избавиться от неё. Правда, он не говорил этого прямо, но намёки Елизавета понимала легко.
Шуваловы плотным кольцом окружили императрицу и всё ещё не решались примкнуть к той или другой стороне — их одинаково страшило возвышение как Петра с Воронцовыми вкупе, так и великой княгини.
Следствие по делу Бестужева вяло протекало целый год. Конечно, никаких бумаг у Бестужева не было найдено, все обвинения против него оказались неосновательными, и потому Елизавета распорядилась просто выслать его в свои деревни, где он должен был жить безвыездно.
Апраксин умер вскоре после ареста, так что обвинителям не пришлось и доказывать его вину, тем более что материалы трёх военных советов перед отступлением говорили о том, что союзники не выполнили своего обещания снабжать продовольствием русские войска, а голодная армия не могла идти в наступление.