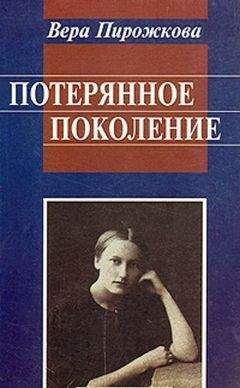Клавдия Яковлевна отобрала у Бабеля свое платье, и они долго смеялись над его проделкой.
Платье висело в спальне, и как-то Бабель сумел его оттуда вытащить в переднюю и захватить с собой так, что хозяева не заметили.
Такие проделки Бабель позволял себе часто, и чем неправдоподобнее выглядела его выдумка, тем было смешней.
Свою мать мог представить кому-нибудь: "А это моя младшая сестра", а о сестре сказать: "А это наш недоносок". Писателя С. Г. Гехта представил Есенину как своего сына и т. д. Бабель любил разыгрывать людей, сам играл при этом разные роли: то хромого, то скупого, то больного.
Если играет роль больного, то начинает стонать на разные лады. Я вбегаю в его комнату, обеспокоенная, а он, постонав при мне еще некоторое время, вдруг рассмеется и скажет: "Я разыгрывал перед вами "еврейские стоны"".
Играя роль скупого, он не брал в трамвае билета и выпрыгивал на ходу при появлении контролера. Мне приходилось выпрыгивать за ним. Мог попросить едущую с ним даму купить ему билет, так как якобы у него совершенно нет денег.
Бабель любил говорить о себе: "Я человек суеверный". Я от многих людей слышала, что он сейчас же возвращался домой, если черная кошка перебежит ему дорогу или кто-то из домашних спросит, куда он идет. Свидетельницей таких возвращений я не была. На перилах лестницы в нашей квартире висела подкова. "Зачем это?" — спросила я. "Это приносит счастье", — ответил Бабель, улыбнувшись. По его лукавой усмешке я понимала, что это была только игра в суеверие, которая его забавляла.
Как-то в выходной день, наверное, в 1937 году, Бабель сказал мне: "Сегодня дома не обедаю. Обедаю в ресторане с Любовью Михайловной Эренбург. Эренбурги часто кормили меня в Париже".
Я спросила Бабеля, сколько у него денег. Он вытащил бумажник и, заглянув в него, ответил: "Сто рублей". Я сказала, что этого мало для того, чтобы угостить такую даму, и дала ему еще сто рублей.
Продолжение этого эпизода мне позже рассказала сама Любовь Михайловна. Она жила тогда в гостинице, и Бабель ни за что не захотел туда за ней заходить. Он назначил ей свидание на улице за углом и повел в ресторан гостиницы "Москва" на площади Революции. Когда они сели за столик, Бабель взял карточку меню и спросил: "Икры хотите?" Она ответила: "Нет". "Семги хотите?" — "Нет". — "Пирожных хотите?" — "Нет". Бабель предлагал ей самые дорогие блюда и вина, а она отказывалась. Заказали мало, что-то из не очень дорогих блюд. А после обеда Бабель ей сказал: "Сразу видно, что вы — хороший товарищ. Другая бы потребовала от меня и икры, и семги, и крабов, и тортов, и мороженого, а вас накормить стоило совсем недорого". Действительно ли Бабель боялся заходить в гостиницу, где в 1937 году, конечно же, велось наблюдение за каждым приходящим туда? Или он разыгрывал перед Любовью Михайловной роль трусливого Бабеля? Думаю, что второе.
Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, пока Бабель еще спал. Вставая же, он пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя… В доме был культ чая. "Первач" — первый стакан заваренного чая Бабель редко кому уступал. Обо мне не шла речь: я была к чаю равнодушна и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами: "Обратите внимание: отдаю вам первач". Завтракал Бабель часов в двенадцать дня, а обедал — часов в пять-шесть вечера. К завтраку и обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться, но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно: в Метропроекте засиживались, как правило, часов до восьми-девяти.
Из Метропроекта я часто звонила домой, чтобы узнать, все ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала:
— Ну, как дома дела?
На что Бабель мог ответить:
— Дома все хорошо, только ребенок ел один раз.
— Как так?!
— Один раз… с утра до вечера…
Или о нашей домашней работнице Шуре:
— Дома ничего особенного, Шура на кухне со своей подругой играет в футбол… Грудями перебрасываются.
Иногда Бабель сам звонил мне на работу, но подошедшему к телефону говорил, что "звонят из Кремля".
— Антонина Николаевна, вам звонят из Кремля, — передавали мне почти шепотом. Настораживалась вся комната. А Бабель весело спрашивал:
— Что, перепугались?
Бабель не имел обыкновения говорить мне: "Останьтесь дома" или "Не уходите". Обычно он выражался иначе:
— Вы куда-нибудь собирались пойти вечером?
— Да.
— Жаль, — сказал он однажды. — Видите ли, я заметил, что вы нравитесь только хорошим людям, и я по вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал вас с ним познакомить.
Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел, и проверить, хороший ли он человек, Бабелю не удалось.
Иногда он говорил:
— Жалко, что вы уходите, а я думал, что мы с вами устроим развернутый чай…
"Развернутым" у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения я никогда не могла устоять. Бабель сам заваривал чай, и мы садились за стол.
— Настоящего чаепития теперь не получается, — говорил Бабель. — Раньше пили чай из самовара и без полотенца за стол не садились. Полотенце — чтобы пот вытирать. К концу первого самовара вытирали пот со лба, а когда на столе появлялся второй самовар, то снимали рубаху. Сначала вытирали пот на шее и на груди, а когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек напился чаю.
Так и говорили: "Пить чай до бисера на животе".
Пил Бабель чай и с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм.
Часто бывал он в народных судах, где слушал разные дела, изучая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в женскую юридическую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Е. М. Сперанская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился в угол и часами слушал жалобы женщин на своих соседей и мужей.
Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля по материалам судебной хроники, который он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, без всякого юридического образования, не искушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту Советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор.


![Татьяна Рожнова - Жизнь после Пушкина. Наталья Николаевна и ее потомки [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/31634/31634.jpg)