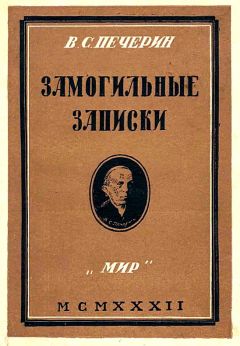Ознакомительная версия.
Много лет спустя он назовет связь идеалистических стремлений с расчетом на награду «задней мыслью революции» (РО: 153). Взлелеянные в разгоряченном воображении образы революционных катаклизмов, не участником, а лидером которых он себя представлял, никакого отношения к его повседневной жизни не имели.
В конце 1834 года Печерин провел еще несколько месяцев в Италии, потом ему пришлось вернуться ненадолго в Берлин. Полное безденежье, вплоть до отсутствия денег на хлеб во время пребывания в Италии, заставляет его с отчаянием в душе возвратиться на родину, где его ждет университетская кафедра, петербургские друзья, знакомый, на годы вперед известный распорядок жизни и успешная карьера. Никогда больше не знать ему такого счастья, какое он узнал в этом последнем путешествии: «слезы первого человека о потерянном рае льются из глаз моих, когда я думаю об тебе, Италия!». В своем дневнике, или «журнале», отрывки из которого Печерин посылает Никитенко, он записывает:
Я прожил в Италии четыре месяца, свободный, беззаботный, как Бог. Это были дни безоблачные и на небе, и в сердце моем. Правда, под конец моего путешествия меня постигли маленькие неприятности, которые чернь назвала бы несчастьями. В Неаполе я три или четыре дня стоял между двумя пропастями: мне оставалось или застрелиться, или умереть с голоду. (…) Но это были минуты, секунды перед вечностью моего блаженства. (…) Если мне не суждено возвратиться в Рим и жить, долго жить в Риме – по крайней мере я желал бы умереть в Риме! О! Если я умру в России, перенесите мои кости в Италию! Ваш север мне не по душе. Мне страшно и мертвому лежать в вашей снежной пустыне (Гершензон 2000: 452).
Желание Печерина быть похороненным в Италии не сбудется, и костям его не будет дано обрести покой «в тени вечно зеленых кипарисов». Его прах потревожат и перенесут туда, где ему, наверное, еще страшнее, чем было бы в русской земле. Но об этом позже.
Итак, в июне 1835 года студенты профессорского института вернулись в Петербург. Современники писали о неприятном потрясении, переживаемом русскими, возвращавшимися из Европы в Россию. Все товарищи Печерина чувствовали, что они «отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве (крепостного) рабства. Особенно мрачен Печерин», – записывает 17 июня 1835 года в дневнике Никитенко (Никитенко 1893: 359). Никто из них не испытывал такой «неизлечимой тоски», как Печерин, никто не отвергал самой возможности сохранения своей личности, самой возможности счастья в России. Недаром одна московская дама, заметив уныние Печерина по возвращении на родину, «с обыкновенной женской проницательностью» поставила точный диагноз его болезни, принимающей в некоторые эпохи характер эпидемии: «Il a le mal du pays», что тогда значило: «У него тоска по загранице» (РО: 176).
Достоевский мог частично иметь в виду Печерина, не только пародируя его поэму, но и рассказывая о репутации Степана Трофимовича, чье «имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть ли не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена» (Достоевский X: 8). Эволюция взглядов Печерина во многом совпадала с этапами развития мысли, пережитыми каждым из этих известных и влиятельных представителей западнического направления, но Печерин никогда не оказывался в центре умственной жизни России. Печерин принадлежал к более раннему поколению, разница в пять-семь лет и отсутствие связей привели к тому, что он попадал на место будущего действия общественных сил или слишком рано, или просто не вовремя. Около него не оказалось людей, испытывавших такую же ненависть к русскому деспотизму – семейному, общественному и политическому, такое же восхищение новыми европейскими идеями и старой европейской культурой, но при этом допускающих, что, как сказал Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях», «уголок для оскорбленного чувства не в Европе, а может быть под носом» (Достоевский V: 62). Он не насладился высокой интеллектуальной дружбой, которая возвышает над пошлой срсдой и даст общее чувство избранничества. Петербург с его более формальным складом человеческих отношений. а потом пребывание за границей, где он привык к интенсивности умственной деятельности и разнообразию впечатлений. не под готовили его к жизни в патриархальной Москве, совершенно чужом для него городе, где у него не было еще никаких связей.
Сразу же после возвращения стипендиатов профессорского института в Петербург, летом 1835 года, был учрежден комитет для их распределения по разным русским университетам. Предварительно они должны были прочитать показательную лекцию на тему, назначенную комитетом под председательством Уварова, ставшего в 1833 году министром просвещения, с участием когда-то любимого профессора Грефе. Печерин прочитал по-латыни доклад на тему «Надгробное слово Перикла из второй книги Фукидида», доказывая подлинность этой речи «приведением внутренних доказательств, почерпнутых из господствующего в целом сочинении духа», то есть основываясь на стилистическом анализе текста (Бобров 1903: 125). Печерин заострил внимание на демократическом пафосе речи Перикла, в частности высказавшего следующие мысли: «Так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинстве) народа, то наш государственный строй называется народоправством. (...) Город наш – школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях»[34]. Печерин всегда находил возможность отступить от принятых жанровых рамок – будь это официальный доклад, личное письмо или церковная проповедь– для того, чтобы выразить какие-то свои задушевные убеждения. Здесь уместно у помянуть, что в кратком предисловии. сопутствующем публикации переводов надгробных эпиграмм из греческой антологии, Печерин выделил наиболее важные именно для него мысли:
Надгробные надписи весьма разнообразны по содержанию и по форме. Они или вообще дышат чувством глубокой скорби, или прославляют доблести умершего, выставляя их как образец для подражания живым, или, большею частию, заключают в себе важные, высокие поучения, которые делаются еще разительнее, когда влагаются в уста умершего: тогда они вещают нам как таинственныгй голос из-за пределов гроба. Такова эпиграмма (…) та могиле мореходца, погибшего вблизи родной земли жертвою строгой Немезиды» (курсив мой. – Н. П.) (Печерин 1972: 730).
Смысл заголовка одного из посланных им отрывков, «Замогильные записки», шире очевидного заимствования названия мемуаров Шатобриана. Он был нацелен, как и все его послания в Россию, на усиление образа человека из прошлого, обращающегося к будущему. По удачному выражению современного автора, «в иерархии преследуемых пророков авторитет покойника стоит выше авторитета изгнанника или заключенного» (Строев 1988: 90). Задумывая свои автобиографические записки, Печерин хотел показать неумолимость строгой Немезиды, обрекшей его на скитальческую жизнь, одновременно продемонстрировать «доблести умершего», то есть себя, умершего для России, но хранившего ей верность, а главное, придать вес своему наследию, понимая, что ему «нечего завещать, кроме мечтаний, дум и слов» (РО: 310).
Ознакомительная версия.