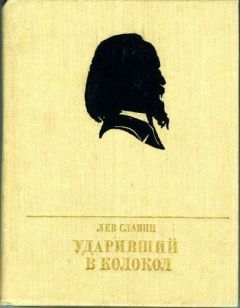Его разочарование было так велико, что он преисполнился отвращением к политической деятельности. Мрачная задумчивость стала пугать Натали. Она подходила к нему, клала руку ему на лоб:
— Стряхни с себя это. Ты стал не похож на себя. Ты весь в каких-то потусторонних мечтах…
— Мечтах? Да! Мечтаю о том, как бы удалиться из этого очумелого издыхающего Парижа хотя бы в Соколово, не получать никаких газет, в субботу ждать друзей, благословлять судьбу, что мы снова среди друзей, а не между иностранцев, которых называют людьми, окружить себя книгами, — ну, и что же дальше? — умереть без желаний жизни и без отвращения от смерти.
— Александр, ты ли это?!
— Поверь, мой друг, я это говорю не с досады и не с брызгу! Ночь! Темная ночь кругом. Солдаты запрудили все Елисейские поля. Кавеньяк опять запретил газету Прудона. Народ погрузился в летаргический сон. Куда взглянешь, дряхлое бессилие Франции, страны мещанства утратившей все юное, поэтическое, все честное, наконец!
Он оживился, встал, говорил горячо, почти бегая по комнате.
Натали, казалось, была утешена.
«Ничего, пусть ярится, — думала она, — только бы не эта ужасная душевная апатия».
Понимала ли Натали его до конца? Так сказать, во всем его объеме? Нет. Тут же скажем: как и он ее.
Разговор этот имел для Герцена благодетельное влияние, словно этой исповедью он выплеснул из себя свою мрачную неподвижность. Он восстал против собственной пассивности. Он заявил, что объявляет войну тем, кого он называл «неполными революционерами».
«У меня еще слишком много крови в жилах, — писал он к Джузеппе Маццини, — и энергии в сердце, чтобы мне нравилась роль пассивного зрителя. С 13-ти лет и до 38-ми я служил одной и той же идее, имел одно только знамя: война… против всех видов рабства во имя безусловной независимости личности».
В начале ноября Герцены переехали на новую квартиру — бульвар Мадлен на стыке с бульваром де Капюсин. Квартира хорошо меблирована. Правда, мрачновата, соседние флигели затеняют свет, но они же смягчают уличный шум, никогда не смолкающий на Больших Бульварах.
Домашний быт Герценов приобретал все более устойчивый характер. Тихая, чуть меланхоличная Натали никогда не блистала хозяйственными наклонностями. Она не ощущала потребности в порядке. Ее туалетный стол представлял из себя диковинное смешение пудрениц, французских романов, флаконов с духами. Впрочем, иногда на нее нападал уборочный стих и она мелькала по квартире в изящном фартучке с метелкой в руках — зрелище, неизменно умилявшее Герцена.
Вот он-то при всей безудержности своей натуры был представителем порядка в семье. Он не выносил безалаберности, хаотичности ни на своем рабочем столе, ни в своих сношениях с людьми, ни в своем мышлении.
В парижском доме Герценов скоро стало по вечерам так же шумно и многолюдно, как когда-то в их московском доме на Сивцевом Вражке или как по воскресеньям в подмосковном Соколове. Но находила ли здесь такое же удовлетворение тяга Герцена к широкому общению с людьми? Люди-то не те… «Это были, — вспоминает Герцен в мемуарах, — вновь приехавшие эмигранты, люди добрые и несчастные, но близок я был только с одним человеком… и зачем я был близок с ним!..»
Этот «один» был Георг Гервег, вскоре принесший Герцену самые мучительные страдания, испытанные им в жизни.
Герцен подыскал учителя для своих детей — Саши и Таты. Это был Жан Батист Боке, преподаватель по профессии, революционер по убеждениям. Как многие люди, приблизившиеся к Герцену, он влюбился в него, сделался его горячим поклонником. Да и Герцен жаловал его, хотя посмеивался добродушно над его умеренной революционностью, придумал для него разные клички — «Иван Батистович», «Иван Сукно», «Бокеша», «Анна Батистовна».
Во время революционных событий сорок восьмого года Герцен однажды встретил Боке с торжественно протянутыми руками:
— Примите мои поздравления! О, не притворяйтесь скромником, это вам не к лицу. Ведь вы избраны президентом двенадцатого избирательного округа.
Боке постарался скрыть самодовольную улыбку гримасой пренебрежения:
— О, это ужасный округ! Сен-Жак, Сен-Марсо — самые трудные кварталы в Париже.
— Ладно, ладно, вы на всех парусах плывете в министры. Или…
Герцен состроил озабоченную мину.
— Или? — заинтересовался Боке.
— Или на каторгу.
— Вот это вернее.
— Бросьте, Бокеша, вы уже почти начальство. Знаете что, на всякий случай выдайте мне справку, что я уже расстрелян.
Боке расхохотался самым добродушным образом. Когда он ушел, Герцен сказал задумчиво:
— Хороший человек. Чистый. Но…
— Договаривай, я заинтригована, — сказала Натали. — Наши дети обожают его.
— Но сентиментален и свиреп. То готов расплакаться, как девочка, то хладнокровно наделает зверства. Это французская черта.
— Только ли французская…
Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой.
ГерценВесной сорок девятого года в Париже разразилась холера. Всякий, кто мог, бежал из города. Небо было застлано тучами, тем не менее стояла удушливая жара. Выехали и Герцены. Луиза Ивановна нашла подходящий домик в деревне Виль д'Аврэ.
С утра Герцен взял себе за правило гулять. Во время прогулок он не переставал работать. В то утро, как и во все предыдущие, мысль его вращалась вокруг произведения, для которого он уже и название подыскал: «С того берега». Он избавлялся от горестных ощущений, изливая в него разочарование революционера. Тот берег — это берег революции. Книга складывалась в его воображении, а отчасти уже и на бумаге как одно из наиболее страстных его сочинений. Отнюдь не проповедническое. Далекое от теорий, от пропаганды идей. Это беспощадный приговор «паяцам свободы», «политическим шалунам», либеральствующим краснобаям.
Герцен задумал посвятить эту книгу сыну, Саше. Надо найти такие слова, чтобы посвящение вошло в сознание сына непреоборимо и таким же оставалось во всю его жизнь, как завещание.
Слова то пенились, то курчавились, то отливали сталью, уходили и вновь рождались. Герцен шагал по роще, окружавшей деревушку, выбирая нехоженые тропы. Места эти были ему милы своей неприхотливостью. Природа невыделанная, как в парках Сен-Клу и Трианона, неухоженная, и в ее естественности и простоте было что-то хватающее за душу своим сходством с русскими полями и перелесками.
«Не ищи решений в этой книге… Знай истину, как я ее знаю…»
Герцен подумал, что, в сущности, истина — это некое наследство, которое он передает сыну.