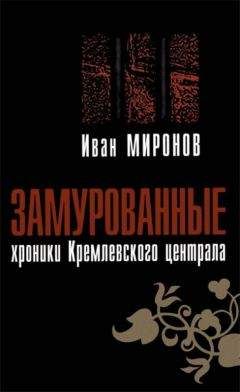— Входной билет двести зеленых, выходной — в подарок. Понял?
— Продуманная рекламная политика.
— Чего?
— Трубу давай.
— Погоди. Сначала отведу тебя в стакан, узнаю, когда этап, потом звонить будешь. Нацепив на меня наручники и поправив на себе фуражку, мент повел меня к выходу, возле которого к нам присоединился еще один конвоир. Обогнули здание и по широкой каменной лестнице вошли в больничное парадное. «Стакан» был вовсе не стакан, а перегороженный дверьми, упирающимися в высокий потолок, кусок коридора, по обеим сторонам которого к полу были привинчены металлические кресла-лавки. Из-под лавок торчали две пустые конфетные коробки, набитые окурками, источавшими едкий запах гнилой соломы. Здесь, как в загоне, кругами бродил зэка в безразмерной куртешке, в обутках не по сезону и не по ноге. Парня кумарило: глаза навыкате, зрачки бесновато прыгали, съеденные метадоном гнилые зубы черным рубцом врезались в лицо, перекореженное звериной отрешенностью.
Мент вернулся быстро. Самодельное окошко в двери отъехало, в дырке появился порезанный бритьем слоистый подбородок.
— Тебя через час уже заберут, — расстроено вздохнул сержант. — Пытался задержать, не проходит. Здесь же не автобусная остановка. А ты еще с «девятки», на особом контроле. Короче, не получится.
Форточка нервно дернулась и не с перового раза закрылась. Изловчившись, я зигзагом улегся на металлические сиденья, перекинув ноги через поручень. Глаза слепили галогеновые колбы, свет которых сквозь опущенные веки сливался в ядовито-красную полосу.
Проснулся под выкрик своей фамилии. Судя по резкому и раздраженному тону, это была не первая попытка ментов меня добудиться. Вместо буханки у входа стоял «Зил». Внутри к решке первой голубятни приникли женщины, с интересом оглядывая нового попутчика. Все на одно лицо, возраст терялся от четвертака до бесконечности. Второй рукав забит под горлышко. Пробившись сквозь арестантскую массу, я уселся напротив робко переговаривавшихся зэков, выбивавшихся своим видом из общего пейзажа. Один — дерганый, седеющий и лысеющий, с испуганным лицом, выражавшим отчаянье и обреченность. Другой — помоложе, в приличном костюме, в свежей сорочке, гладко выбритый, излучал уверенность и сдержанный оптимизм.
В щели приоткрытого люка проносились верхние этажи домов, по которым, словно по карте, эти интеллигентные зэки прокладывали возможный маршрут этапа, оживленно споря за каждый поворот воронка, хотя молодой особо не отстаивал свои географические догадки, принимал на веру мнение собеседника, больше из вежливости, чем из доверчивости.
Если ты не куришь, то, очутившись в автозаке, сразу же начинаешь задыхаться. Едкий запах до боли сжимает виски, очень хочется закурить самому. Но это только первые минут пять, потом привыкаешь, и остается только ноющее раздражение. Как и я, мужчины не курили, здесь это тоже бросалось в глаза. Меня разглядывали исподтишка, видимо, вспоминая, где видели раньше.
— С какого централа? — спросил я.
— С Лефортова, — обрадовался молодой началу разговора. — Сам откуда?
— Девять-девять-один.
— Что за беда?
— Всего и не вспомнишь… Три гуся (Статья 222. — Примеч. авт.), терроризм, сто пятая…
— А, погоди-ка, — в разговор вмешался лысый. — По Чубайсу, что ли?
— Точно! Миронов, по-моему, — торопливо перебил молодой. — Смотрю, лицо знакомое, а вспомнить не могу.
Помоложе представился Серегой, постарше — Игорем. Они шли подельниками, сидели всего десять месяцев, но уже начался суд — корячилось от восьми до шестнадцати.
Знакомства на этапах развиваются стремительно, за пару часов успеваешь узнать и услышать то, на что обычно не хватает и суток. Человек — животина социальная, склонная к общению. Вот и стараются все не упустить случая, который может еще долго не представиться. При этом услышанное надо не только переварить, но и запомнить и для себя, и для алчущих новостей сокамерников. Набор тем в разговоре стандартен: как звать? с какой тюрьмы? сколько сидишь? что за делюга? Далее — детали: с кем сидишь? какие условия… И только потом, в случае обнаружения взаимной симпатии, переходят на личное: чем занимался на воле? где жил? как семья?..
Сергей Генералов оказался коммерсом, залетевшим на попытке вернуть долг. Шили ему вымогалово с вариациями. Брали его чекисты на помеченном бабле.
— Представляешь. — Серега злобно ухмыльнулся. — У меня обыск майор проводил, которого я с детства знаю, в соседних подъездах жили, дружили… «Горячее сердце, чистые руки»… За звездочку отца родного закроет…
Услышав это, Игорь насупился, отвернулся и продолжил созерцание улицы через потолок.
— Короче, через месяц после ареста, — на выдохе, боясь не успеть всего рассказать, продолжал Генералов. — Приходит ко мне следак с предложением: или чистуха, или сто пятая в придачу. Я года два назад попал в легкий блудняк. Выхожу как-то из подъезда, иду к машине, вижу: рядом бомж валяется, башка у него в крови. Ну, я вызвал «скорую». Лепилы, естественно, ментов подтянули. Оказалось, что доходяге из травматики в глаз шмальнули, и на глушняк. Мусора тогда все оформили, меня отфиксировали как свидетеля с благодарностью, как говорится, за гражданскую сознательность. А спустя два года, в Лефортово мне следак заявляет, что поскольку у меня в машине имелось травматическое оружие, значит, я и замочил того мужика. Проложили конкретно.
— Как сидится-то?
— Нормально. Знаешь, в тюрьме вкус к жизни обострился или вновь появился — сам не пойму. Если б завтра выйти, то спасибо судьбе за такую школу. Кстати, как у вас? С кем сидишь?
— С одним бандюком из кингисеппской группировки. Его из Лефортово перекинули.
— Заздравнов?! — Лысый, нарочито отстранившийся от нашего разговора, подскочил, словно ошпаренный.
— Пересекался с ним?
— Животное! — Игорь взвыл. — Я с этим гадом три месяца отсидел.
— Не сладко, я смотрю, тебе с ним жилось.
— Да он урод отмороженный, сволочь тупая, на «ры» берет… — Лысый осекся, не совсем своевременно сообразив, что слишком увлекся.
— Не, у нас он смирный, правда, жрет все, что не приколочено, но строго по разрешению. Привет передать?
— Обойдется! — Лысый в досаде закусил губу.
— Как фамилия-то твоя?
— Зайцев, — нехотя пробормотал собеседник.
По дороге заехали еще в несколько судов. На одной из остановок в воронок закинули девочку. Она присела на краешек скамьи в открытый стакан практически вплотную к нашей решетке. Звали ее Милой, статья два два восемь. Простые, светлые черты лица, хрупкая фигурка, глубокий уставший взгляд тонули в этом человеческом смраде. Мат затих, заиграли улыбки. Эта девочка, сама того не ведая и не желая, стала внезапно ожившей душой и совестью нашего покрытого коростой безнравственности многоликого организма. Как же их пронзительно жалко, молодых русских девчонок, словно маленьких бездомных ребятишек. И жалость-то самая подлая, потому что слезливая, беспомощная и бестолковая.