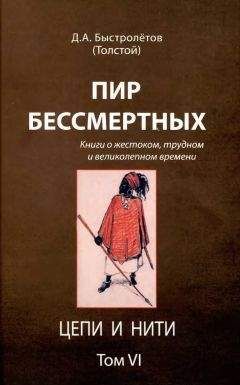Партийный барин-генерал и обывательницы — они тоже законные наследники Сталина. Из Мавзолея их не вынесли и не вынесут: руки коротки!
Слушая второго генерала, я едва удерживался от смеха: как он хорошо знал свою среду!
Когда перед войной Микоян в первый раз побывал в Скандинавии и посмотрел на роскошные столы с холодной закуской, без присмотра и обслуги установленные в отдельных комнатах ресторанов для того, чтобы посетитель сам вооружился тарелкой, вилкой и ножом, взял понемножку с каждого блюда и бросил монету на тарелочку у двери, то в Москве были сделаны опыты — буфеты без обслуги были организованы в Большом театре и в других местах, в частности, в Главном управлении госбезопасности. Затея блестяще провалилась! Продукты разворовали, и через несколько дней буфетчицы уже зорко следили за руками строителей социализма. Я слушал бравого генерала и думал, что он дьявольски прав, но при Сталине маленький доносик мог бы обеспечить ему бесплатную поездку в места, откуда я вернулся…
Понурив голову, я мысленно улыбался и был благодарен генералу за свою улыбку!
Ещё до моего возвращения из Александрова Анечка встретила в приёмной Военной прокуратуры СССР Б.В. Майстраха — он подкрался сзади и чуть не со слезами обнял её за плечи. Это была приятная встреча — много воспоминаний об умерших, много радости, потому что кое-кому всё же довелось живым выбраться из могилы. Потом встретилось немало знакомых по лагерю людей, бывших контриков сталинского времени. Но не всякая встреча была приятной, потому что многие люди, невинно заключенные в лагеря, вели себя там недостойно. Кое-кто, зная за собой грехи, намеренно сторонился нас, кое-кого мы отшили от себя сами, напомнив им их небезупречное прошлое.
Я встретил Баркова, бывшего начальника Протокольного отдела НКИД и проверенного доносчика из тайшетского Озерлага, — его поселили в доме писателей, очевидно, в целях наблюдения за жильцами, а если понадобится, то и для провокации.
Анечка встретила Тамару Рачкову… Воля сделала чудеса, она опять перевернула жизнь, стоявшую в лагере кверху ногами, и всех поставила на свои места: недоучка, бывшая в лагере царицей, Тамара стала опять только недоучкой; великосветская куртизанка Леля Монахова, в голодный год кормившая сливочным маслом своего котенка, опять превратилась в замызганного агронома…
Мы всегда утверждали, что безвинное заключение ещё не делает человека хорошим; нужно знать, как он держал себя в загоне. Поэтому мимо рачковых и барковых мы гордо прошли, не ответив на поклоны.
Знай, сверчок, свой шесток!
Приятно было только сознание, что мы дожили до времени, когда в Москве стало модно и выгодно называть себя контриком!
Кто бы это мог подумать, а?!
Тут нелишне вспомнить ещё об одной встрече. У станции метро мы заметили лежавшего на клумбе цветов мертвецки пьяного человека, облёванного и мерзкого. Проходившая старуха даже плюнула в него. Анечка пригляделась — Борис Григорьев, член нашего кружка в Суслово! Человек, прикасавшийся к Шёлковой нити! Потом мы встречались не раз, он бывал у нас и рассказал свою историю, которую я коротко передам здесь — уж очень она характерна для своего времени.
Григорьева вызвали из Суслово в Москву на конкурс художников-архитекторов. Поместили на работу в закрытую мастерскую. Там он подружился с девушкой, такой же, как и он сам, бывшей студенткой архитектурного института и контриком. Они дали слово пожениться, если выйдут живыми из заключения. «Мы были очень счастливы, — повторял Григорьев… — Счастливее многих миллионов вольных людей». Срок у них кончался почти в одно время, оба были москвичами. Казалось, жизнь поворачивается к ним хорошей стороной, планам не было конца, осталось только дождаться близкого освобождения. Но тут, у порога свободы, она заболела вирусным воспалением лёгких и умерла, а его за полгода до освобождения неожиданно перебросили в Сибирь на вольное поселение после отбытия срока, в глухую деревню близ реки Васюган. В холодный день от пристани этап шёл пешком под проливным дождём. Одни мужчины-«краткосрочники». Пришли еле живые. Конвой усадил людей в грязь и вызвал население деревни. Оказалось, что тут живут одни женщины — мужчин или перебили на фронте, или они не вернулись в колхоз после демобилизации.
— Выбирайте женихов, бабы! — хохотали солдаты.
Первой вышла выбрать себе сожителя председательница, молодая рябая женщина. Осматривала сидящих в грязи мужчин, как скот. Подошла к Григорьеву.
— Ну, ты! Поднимай голову, слышь! Смотри сюды, не отвёртывайся, гад! Сколько годков? А? Ну, ладно, беру. Эй, начальник, запиши за мной энтого белявого, он вроде моложе и из себя получше!
— Так я стал подневольной наложницей этой стервы, — опустив глаза, говорил Григорьев, надрывно пыхтя сигаретой. — Кормила она меня по тем временам неплохо, крала из колхоза, что могла. В любви была зверем. Я её возненавидел. Да что там рассказывать… Чувствую — ещё месяц-два и её зарежу. При обходе оперуполномоченного подал заявление, что прошу отправить в Заполярье на поселение. Опер начал было отговаривать, потом понял. Со следующим этапом потащили меня в Норильск. Да, теперь пью, Дмитрий Александрович. Пью крепко, это верно. Так ведь и причины же были — без них в жизни ничего не бывает…
В это же время нас нашли Лида Малли, Ольга Исурина и Женя, их сестра. Было приятно встретить людей, с которыми шёл по лезвию ножа в Лондоне, Париже и Берлине, но я помнил Раджабова и его рассказ и понимал, что срок в 3 года, литерную бытовую статью и досрочное, через полтора года, освобождение Лида и Ольга могли получить только за какие-то услуги: сталинские чекисты были не особенно щедрыми людьми!
— Дима, я голодна! — кричала с порога Лида и начинала бесцеремонно опустошать наши скудные запасы. А потом решила женить меня на себе. Действовала грубо и прямо: Анечка была изнемогающей от непосильного труда нищей, а у Лиды ещё оставалось 48 000 рублей, полученных после реабилитации в качестве компенсации: как-никак она была женой генерала, старого чекиста. Анечка не жаловалась и молча страдала.
Так прошла зима пятьдесят седьмого года. Началось лето и жара. У чанов с кислотой работать стало трудно. Анечка не могла искать другую работу — не было времени: она приходила и падала на постель в изнеможении. У неё началась жестокая гипертоническая болезнь; жестокая потому, что каждодневно условия труда на заводе и условия быта в доме создавали постоянное внутреннее напряжение. Анечка разрывалась на части, пытаясь заткнуть дыры в бюджете и отразить бесконечное тявканье и рывки человеческого шакалья, среди которого мы жили. Она не похудела и выглядела не очень плохо, как все гипертоники, но болезнь быстро прогрессировала. И однажды ей пришлось из-за боли в затылке остаться дома. Потом ещё. Ещё. Она стала плохо видеть, неуверенно ходить. А кислотные ванны не ждали — работа требовала присутствия на заводе, от этого зависел заработок и, значит, наша жизнь. В это время я ещё не мог работать и по-прежнему висел у неё на шее. Она пока с трудом сама держалась на поверхности и поддерживала меня. Но нужно было получить ещё один удар посильнее, чтобы пойти ко дну.