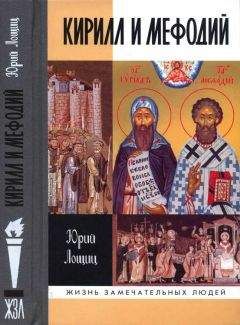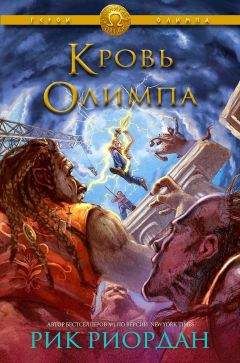По заведенному обычаю обмен производился в малоазийской феме Киликия, на берегах пограничной реки Ламус. Это примерно в половине расстояния между Константинополем и Багдадом. Из арабской хроники узнаём, что ромеи приехали с подарками от императрицы Феодоры, что в долгий путь они отправились 6 декабря 855 года, что в посольстве было около пятидесяти патрициев и их слуг, что для обоза было нанято семьдесят мулов, наконец, что обмен производился в конце февраля — во время мусульманского праздника разговения после поста — и сопровождался раздачей милостыни. Выходит, византийская сторона потратила на дорогу без малого три зимних месяца. Когда достигли, наконец, древнего приморского города Тарса, знаменитого тем, что здесь когда-то родился будущий апостол Павел, можно было вздохнуть с облегчением: до Ламуса оставался всего лишь день перехода.
Сам обмен пленными продолжался целую неделю. С арабской стороны главным был придворный евнух Шениф, прибывший из Багдада с сотней всадников. Правила предписывали построить два моста-времянки, чтобы каждая сторона могла запускать по одному пленному, которого при встрече достаточно пристрастно допрашивали. Арабы жёстко отбраковывали тех, кто успел поменять веру. Видимо, так же поступали и греки. На восточном берегу Ламуса терпеливо ждали решения своей участи около ста христианских жителей халифата. Обстановка, как и всегда во время обменов, была нервной. То и дело возникали подозрения во взаимном плутовстве: к примеру, договорились обменивать человека на человека, а как быть, если с той стороны подсовывают стариков, детей?.. И кто докажет, что этот, стоящий перед тобой несчастный — ещё не старик, а тот, заморыш, — уже не ребёнок?
В любую минуту обмен мог прерваться, что тут же грозило бы и нарушением перемирия. Но всё же неделя закончилась благополучно. Асикрет Георгий, возможно, на восточный берег Ламуса со своими подчинёнными и не поехал, а тут же занялся отправкой освобождённых людей в родные им места. Но значит ли это, что Философ отбыл в Багдад совершенно один? Наверняка ему было придано какое-то достаточное сопровождение. Так, есть сведения, позволяющие допустить, что вместе с ним в столицу халифата в той же духовной миссии следовали два близких ему человека: родной брат Мефодий и… Фотий — тот самый высокоучёный наставник, в уникальной домашней библиотеке которого протекли для Константина часы увлекательных путешествий в прошлое греческой словесности. Участие Фотия в посольстве, по авторитетному мнению Франтишека Дворника, чешского исследователя эпохи, подтверждается письмом, относящимся к 855 году. В нём Фотий просит своего брата Тарасия присмотреть за его библиотекой, пока сам он будет участвовать в миссии «к ассирийцам». Если так, то получается, что учитель лишь сопровождал ученика, не будучи по каким-то соображениям главным полемистом с греческой стороны?
Хотя агиограф пишет, что асикрет Георгий был в подчинении у Философа, молодой богослов не мог не понимать, что главное в поездке — именно судьба пленных христиан, а не вероисповедное состязание. Последнее как бы входило в обряд перемирия, составляло его этикетную часть. Диспут был, что называется, подан на десерт. Наиболее сложные задачи их здешнего пребывания решались вовсе не в этих богато обставленных покоях, где словесный яд скрывают за мягкими мановениями рук и сладкими улыбками.
Но разве и он не стоял здесь, исполняя завет Спасителя, за друзей своих, за томящихся в неволе христиан? Υπερ των φιλόν αυτου… За други своя — как переведёт он позже для славян эти слова Христа из Евангелия от Иоанна.
…Тем временем диспут продолжился.
Да, противники его, не мог про себя не заметить Философ, азартно цепляются за слова и смыслы. Толкуют их, как им выгоднее. Вот и теперь мгновенно обыграли это евангельское «за друзей своих».
— Христос дань давал за себя и за других. Что же вы не делаете того, что он делал? Если уж защищаете своё, почему не даёте дань великому и сильному измаильскому народу за пленников — родных своих и друзей? Ведь мало же просим, всего один золотой с человека; дайте, и пока стоит земля, сохраним мир между собою.
Эта подробность житийного рассказа помогает различить и меркантильную, и чисто политическую подоплёку переговоров о выкупе пленных. Более того, тут просматриваются и самые веские причины тогдашнего противостояния двух империй. Халифат уже видел себя стороной побеждающей, уже почти победившей, а, значит, её, Византию, — готовым данником: «ведь мало же просим» за вечный-то мир!
Отвечая, Философ снова воспользовался притчей. И опять облёк иносказание в броню старой эллинской логики. Коли уж они Аристотеля почитают и штудируют, то неловко им станет спутаться в ответе.
— Если кто хочет идти по стопам своего учителя, не сбиваясь, а встречный совратит его с пути, друг ему этот встречный или враг?
— Враг.
— А когда Христос дань давал, чья власть была: измаильтян или Рима?
— Рима.
— Тогда за что же нас порицать? Ромеям все даём дань. Право, не багдадскому же «кесарю» завещал Христос отдавать «кесарево»?
И опять за шутливым выводом была непререкаемая, даже подкупающая твёрдость.
Но они ещё и ещё со своими шпильками подступались к молодому гостю. Испытывали его во всех ведомых им искусствах, дисциплинах и их тонкостях. Наконец, — со вздохом досады, приправленной восхищением, — признали:
— Как так? Откуда ты всё это выведал?
Он и тут предпочёл шутливую, хотя и дерзкую, притчу. Ибо назидательность басни особо ценит восточный слух:
— Некий человек зачерпнул воды в море и носил её в мешке. «Видите ли воду, какой нет ни у кого, кроме меня?» — горделиво спрашивал у прохожих. Но пришёл некий муж с берега морского и сказал ему: «Не безумен ли ты, коли хвастаешь вонючим мешком? У нас этого добра целое море». Не так ли и вы поступаете? Ведь все искусства ваши — от нас вышли.
Да, он, пожалуй, чересчур резок в общении с ними. Слишком упорно подчёркивает, что они во всём — и в вере своей, и в науках — новички и подражатели. Но разве сами они не подтверждают на каждом шагу, что учатся чужой мудрости? И у персов учатся, и у евреев, и у старых мудрецов Индии, но чаще всё же у греков. Переводят и вызубривают Платона, Аристотеля, Птолемея, даже неоплатоников. Но уже и заносятся так, будто сами все эти знания подарили соседям.
Как ни смягчал свои выводы иносказаниями, нелицеприятность его суждений напоследок дорого обошлась Философу. Довелось ему испытать на себе ещё один «довод» хозяев. Тоже, по-своему, иносказательный. Где-то под конец его пребывания в Багдаде Константину, как свидетельствует житие, то ли в питьё, то ли в еду была подбавлена отрава. Происшествие настолько, так сказать, классическое, во все времена и у всех народов распространённое, заштампованное, что для некоторых комментаторов «Жития Кирилла» и оно не могло не стать камнем преткновения. И конечно же лишним доводом в пользу неправдоподобности всего рассказа об Арабской миссии. Тем проще было прийти к такому мнению, что в житии говорилось о покушении на жизнь Константина как о событии, разрешившемся чудесным образом: