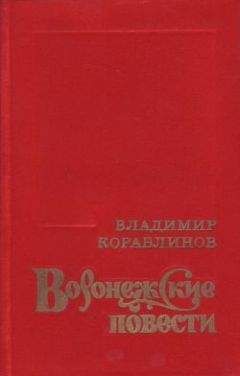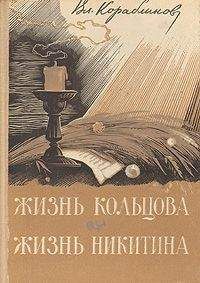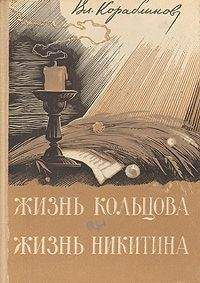Такое состояние мое было, конечно, замечено. Мама спросила с тревогой – уж не заболел ли?
– Да нет, ничего, – пробормотал я, отводя глаза.
Так ноябрь подошел. Приближалась первая годовщина Великой революции. Дни сверкали ясные, звонкие. Над Углянцем журавли пролетали, ночами тянулись гуси. Сады стояли голые, сквозные, с гремящей палой листвой под ногами.
Об эту пору вернулся с войны один из наших сельских учителей – Михаил Иваныч. Каждый день бывал у нас, обедал, рассказывал про свои ратные похождения. Он был балагур, веселый человек, все его приключения выглядели смешными, и даже о том, как едва не погиб, рассказывал шутейно.
Но вот однажды явился хмурый, озабоченный, и прямо к маме:
– Ну, матушка Марья Михайловна, выручайте! Размерите, голубушка, как это, на какой мотив поется… Вот ноты прислали из губернии, новый гимн, велят к празднику разучить со школьниками, а я в этой премудрости нотной – ни бе, ни ме…
Только было мама уселась за пианино и принялась робко, одним пальчиком, выстукивать мелодию «Интернационала», как в передней затопали сапогами, и Андрюша-председатель ввалился с неразлучной своей винтовкой, а с ним секретарь сельсоветский, с каким мы трудились над великолепными списками «гражданам, кои имеют удовольствие».
– Здорово, матушка, – сказал предкомбеда, – мне вашего Володю нужно.
Я помертвел: вот они, сны-то…
Однако страхи оказались напрасны. Ко дню праздника требовалось написать печатными буквами лозунг, и, как в деревне знали, что я «малюю», то к кому же как не ко мне и было обратиться нашим властям.
Но тут другой вопрос возникал: откуда взять красного кумачу? В потребиловке (как тогда называли сельские кооперативные магазины) вообще никакой мануфактуры нету, спрашивали в волости – та же картина. Разговаривая, предкомбеда все поглядывал на некое громоздкое сооружение из порожних ящиков, тюфяка и темно-красного покрывала. Сооружение это называлось у нас оттоманкой. Мама сразу догадалась, чего это Андрюша глаз не сводит с оттоманки.
– Этакая-то подойдет? – прямо спросила она.
– Первый сорт! – обрадовался председатель.
Все решилось враз: покрывало разорвали пополам, а одну половину председатель взял с собой, – «в сельсовет, на флаг», – пояснил он, – а вторую, вместе с баночкой цинковых масляных белил, вручил мне.
– Ну, давай пиши, – сказал.
– А чего писать? – спросил я.
– Да чего-чего… – Он задумался, поскреб под солдатской папахой. – Пиши прямо: да здравствует красный Углянец. И без никаких!
Утро седьмого ноября заалело, засеребрилось морозцем. Возле сельсоветской избы собрались, покуривали десятка два мужиков. Бабы, прогнав в стадо коров, одна за одной подходили, спрашивали друг у дружки с любопытством: «Чевой-то будет-то?» На коньке крыши сидел Сигней-сторож, обрывком старых вожжей прикреплял к кирпичной трубе флаг. Михаил Иваныч привел шумный табунок школьников. И тогда на крылечке сельсовета показалась власть, два преда: комбедовский – Андрюша и сельсоветский – Аким Михалыч.
Он был новый в селе человек, хотя и углянский по рождению. Мальчонкой еще, отбившись от крестьянства, ушел на шахты, да так там весь свой век и свековал. Летом восемнадцатого года – больной, изможденный, почти старик в свои сорок лет, вернулся на родину, поселился у брата. «Ты чего? – удивился брат. – Ай отшахтерился?» – «Как сознательный рабочий класс и член Рекапе, – будто бы сказал Аким, – пришел я вас, темных сиволдаев, до мировой революции довесть, а то знаю я вас …» Он кашлял, задыхался, в нем жизнь чуть теплилась. Брат только головой покачал: «Водитель! Как на ногах-то еще держишься…» – «Меня, браток, с ног не сшибешь, – отвечал Аким. – Я злобой на буржуев сто лет проживу, не крякну!»
Он оказался великим охотником говорить длинные речи, – тогда в деревне это еще в новинку было, – и мужики определили его в председатели. А говорил он цветисто, кудряво, всегда с криком; мудреные слова: гегемония, эксплуатация, саботаж, пролетарьят, плутократия – так и летели с его языка.
И вот он вышел на крылечко и прокричал речь.
– Ат, дьявол! – восхищенно сказал сторож; прикрепив флаг, он не спешил слезать, сидел верхом на крыше. – Пра, дьявол! Чисто колесо – крутится, а спиц не видать…
Михаил Иваныч взмахнул руками, и школьники вразнобой запели: «Вставай, проклятьем заклейменный».
– Шагом марш! – скомандовал Аким. И мы шибко пошли в волость. Впереди шагал комбед Андрюша. Винтовку он взял на ремень, а в руках нес палку с прикрепленным к ней бордовым лоскутом: «Да здравствует красный Углянец!» Буквы кривили, проступившее масло окружало их темной каймой, но радость и гордость распирали меня: что ни говори, а это ведь было первое мое произведение, нужное обществу и признанное им.
Необыкновенно веселый, радостный разгуливался день. Дорога на Орлово, в волость, тянулась краем поля, вдоль ряда деревенских мельниц-ветрянок. Ровный, подувал прохладный ветерок, работа у мукомолов не стояла. Услышав песню, вылезали седобородые из причудливых своих крылатых убежищ, дивились на нас, на хлопающий под ветром красный флаг, рукой заслонясь от яркого солнца, долго глядели вслед.
А в Орлове – не то что в Углянце – было людно. На пыльной притоптанной площадке перед кирпичным домом бывшего волостного правления толпились пришедшие из других сел – из Тресвятского, Забугорья, Селиванова, Макарья, – все больше, как и углянские, школьники. И трепетали на ветерке скромные знамена, и даже, помнится, какой-то оркестр, составленный из гармониста, двух балалаек и мандолины, время от времени простодушно и радостно всплескивал над солнечной тишиной, заглушая будничную разноголосицу еще не привыкшей к новому празднику деревни.
Тут тоже оратор был – председатель волисполкома товарищ Попов, но он уже не с крылечка, не по-домашнему говорил, а служебно, стоя за столом, накрытым чистой холщовой скатертью. И фоном ему высилась красная кирпичная стена волостного Совета, украшенная небольшими портретами Ленина и Карла Маркса. Так же, как и Аким, он сыпал новыми, еще малопонятными словами, однако смысл речи улавливался не в пример легче, вразумительнее, и смысл этот вырвался наконец целиком в его последнем вскрике:
– Да здравствует мировая революция!
Затем нас повели в школу, где вместо парт были длинные столы, уставленные разномастными тарелками и блюдами со свежим, еще теплым хлебом. И две тихие, молчаливые старые девушки, чернички орловские, мобилизованные для этого случая волисполкомом, из черных, дымящихся чугунов угощали нас гусиной лапшой и как-то молитвенно, тоненькими голосками приговаривали: «Кушайте, деточки, кушайте, бог праздничка послал…»