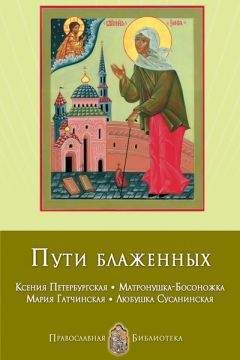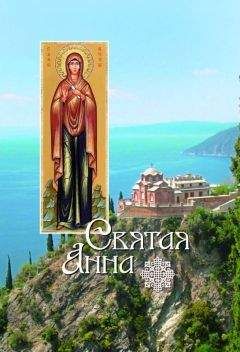И стала Прасковья Ивановна с той поры бояться свою дочь. Раз прислала фунт чаю, да в сундучке кое-какие платьишки мирские, а она, моя матушка Пелагея Ивановна, и не поглядела даже, я все и раздала. Начали родные ее посещать нас в монастыре, и всегда заранее Пелагея Ивановна об этом знает: уйдет, залезет в крапиву и ничем ее оттуда не вызовешь. «О, батюшка, — скажет мне, — ведь они люди богатые, что нам с ними?»
Однажды приехал к ней муж, и это Пелагея Ивановна провидела. Он ее обратно в Арзамас звал, но она отказалась. После этого он никогда не приезжал, и ничего не слышно было о нем. Много лет спустя, в 1848 году, вижу я, как Пелагея Ивановна моя вдруг как вскочет, вся поджалась, скорчилась, стонет и плачет. Спросила я, что это с ней. А она говорит:
— Батюшка, ох, ох! Умирает он, да умирает-то без причастия.
Тут я все поняла и замолчала. Немного времени спустя приехал к нам приказчик мужа и сказал, что Пелагея Ивановна такими своими гримасами показывала все, что было с Сергеем Васильевичем. Его действительно схватило, он точно так же корчился, бегал по комнате, стонал и приговаривал: «Ох, Пелагея Ивановна, матушка! Прости ты меня Христа ради. Не знал я, что ты терпишь Господа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне, помолись за меня!» Да без причастия так и умер. Это произошло во время холеры.
В Дивеевской обители была великая смута, связанная с хозяйничаньем послушника Ивана Тихонова, который после смерти батюшки Серафима самовольно присвоил себе звание его ученика и стал по-своему распоряжаться в Дивееве. Батюшка Серафим и эту смуту предвидел загодя и говорил, что его «сироткам» пострадать придется. Отняли у нас законную настоятельницу. Дело дошло до Синода. И вот все это время-то Пелагея Ивановна свою «работу работала»: палками била да камни таскала, видно, так «бесов гоняла».
А с тех пор, как возвратили нам матушку-игуменью Елизавету Алексеевну Ушакову, перестала озорничать и моя Пелагея Ивановна. Вместо камней да палок с начала матушкиного игуменства цветы полюбила. И сколько ей, бывало, принесут: пуки целые! Всю келью затравнят ими. Тут она и бегать почти перестала, все больше в келье сидела. Повесила батюшки Серафима портрет и матушки-игуменьи: с ними все ночи напролет разговоры вела да цветов им давала. Спать она почти не спала: разве так, сидя, подремлет. А ночью, бывало, посмотришь, ее уж и нет: стоит где-нибудь в обители, невзирая на ненастье, обратясь к востоку, полагать надо, — молилась. Никогда не болела.
Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный, но прежде она плакала более тайком. Помню, однажды схватилась я, уж очень долго ее на месте не было. Пошла в поле, вижу: сидит она у кирпичных сараев и так горько плачет, словно река льется. Я забеспокоилась, подумала, уж не побил ее кто? А она мне, моя голубушка, и говорит:
— Нет, матушка, это не так; надо мне так плакать, вот я и плачу…
А года за четыре до своей смерти (1884), когда слышно стало, какие пакости да беззакония у нас творятся на Руси, она, сердечная, плакала, не скрываясь, и почти не переставала. Глаза даже загноились и заболели у нее от этих слез.
— Эх, Симеон (стала она меня так называть), если ты знала, что творится, весь бы свет заставила плакать, — говорила она.
Что и говорить… Воевать по-своему, по блаженному, воевала, а уж терпелива и смиренна была, удивляться лишь надо. Бывало, таракашку зря ни сама не тронет, ни другим не даст. Не только кого обидеть не могла, но если ей на ногу наступят, раздавят вовсе, то она и не пикнет, поморщится только. Как хочешь ее унижай и поноси, ругай в лицо, — она еще и рада, улыбается. «Я ведь, — говорит, — вовсе без ума, дура». А если кто-нибудь отметит ее прозорливость и назовет святой и праведницей, то она очень растревожится. Не терпела почета, поношение любила больше всего.
Никогда ничего ни у кого Пелагея Ивановна не искала, не просила и не брала. Она была совершеннейшим образцом нестяжательности. Ничего своего у нее не было, кроме двух серебряных столовых ложек, да и те матушке-игуменье отдала.
Нашу матушку-игуменью Марию (в миру Елизавету Алексеевну Ушакову) блаженная очень любила и редкий день не вспоминала о ней. И с портретом ее целый день разговаривать могла. Все «Машенька и Машенька» — другого названия не было. Пелагее Ивановне все было известно: и заботы, и нужды обители, и как начальнице трудно. Все, бывало, о ней вздыхает и охает: «Машеньку-то мне жаль! Бедная Машенька!» Так что если в обители или у матушки неприятности какой должно случиться, то к Пелагее Ивановне моей не подходи! Ничем в ту пору ей не угодишь — ходит расстроенная, растревоженная. «Машеньке-то, поди, как трудно: никто ее не жалеет», — говорит. И тогда уж знали: что-то неладно.
Обитель Пелагея Ивановна очень хранила, называя в ней всех своими дочками. И точно, была она для обители матерью (по слову святого Серафима Саровского. — Н. Г.): ничего здесь без нее не делалось. В послушание ли кого куда посылать, принять ли кого в обитель или выслать — ничего без ее благословения матушка-игуменья не делала. Что Пелагея Ивановна скажет — то свято, так тому уже и быть.
Никого и ничем она не отличала: ругал ли ее кто, ласкал ли — для нее все были равны. Не делила она людей на старух и молодых, простых и важных, начальников и не начальников. Всякому говорила она лишь то, что по их, по-блаженному, Сам Господь укажет и кому что необходимо было для душевного спасения: одного ласкает, другого бранит; кому улыбается, от кого отворачивается; с одним плачет, а с другим вздыхает; кого приютит, а кого отгонит; а с иным хоть весь день посидит, слова не скажет, будто и не видит. С раннего утра до поздней ночи, бывало, нет нам покоя, иной раз совсем замотают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о горе, кто о смерти, кто о болезни и людей, и скота — всяк со своим горем и скорбями, с заботами идут к ней и без нее ни на что не решаются. Сестры тоже к ней летят почтой. Не было отбою. И все говорили: что она им скажет, так все и случится. Сам, значит, Господь людям указал, как жить. Бывало, с утра и до поздней ночи тормошишься, иной раз так тошно станет, а терпишь да молчишь — делать нечего.
Любила ли она кого-нибудь особенно, Бог весть, я не заметила. Матушку-игуменью любила. Меня, кажется, тоже любила, но как-то по-своему. Именинница я на Симеона Богоприимца и Анну-пророчицу. Вот поэтому последние годы и звала она меня Симеоном, но всегда по-разному. Как назовет, я по тому и знаю — ласкает ли, за что-либо бранит или сердится. Когда была довольна — «Симеон» да «Симеон-батюшка» скажет, а как сердита — «Семка». А если я, обеспокоенная, начну выговаривать кому-нибудь, она тут же возьмет меня за руку, гладит ее, в глаза так и заглядывает, ласкается: «Ведь ты у меня Симеон Богоприимец, батюшка, ведь он так прямо на ручки Господа и принял; да был хороший, да кроткий такой. И тебе так-то надо».