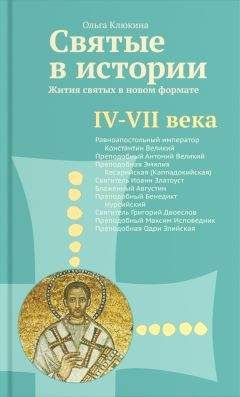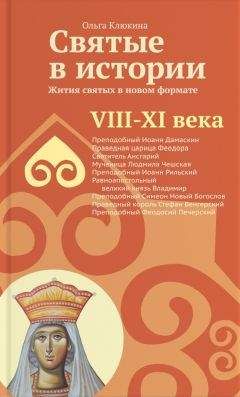«Я искал, что бы мне полюбить, любя любовь. Я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек…» И конечно, очень скоро Августин без труда найдет в Карфагене женщину, которая станет его сожительницей, а потом родит ему ребенка.
Были еще и театры, и скачки, и веселые пирушки, но они не заслоняли учебы. Августин считался, как он сам пишет, первым в карфагенской школе риторов, отчего был «полон горделивой радостью и надут спесью».
«Я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искуснее я лгал».
В Карфагене с подачи своего благодетеля Романиана Августин сблизился с манихеями, как он их позже назовет, «горделиво бредящими».
В то время многие образованные римляне увлеклись учением перса Мани, который называл себя пророком и «апостолом Иисуса Христа, выбранным Богом Отцом». Мани создал некое сложносочиненное учение, в котором было понемногу от христианства, иудаизма, буддизма, зороастризма – интеллигенция всегда любила такие причудливые «коктейли».
Учение Мани о двух равновеликих силах – добре и зле, управляющих миром, легко укладывалось в сознание римлян, привыкших все регламентировать.
В представлении манихеев Христос был неким бесплотным духом вроде привидения из мира света, не имевшим тела. И манихеи любили задавать христианам такие вопросы: откуда зло? Ограничен ли Бог телесной формой? Есть ли у Него волосы и ногти?
«Мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой», – признается в «Исповеди» Августин в своем материалистическом понимании христианства.
Позднее он назовет манихеев «обманчивыми ловцами птиц», которые возле открытой воды мажут жердочки клеем, чтобы прилетевшие напиться птицы сели на такую жердочку – да и попались («О пользе веры»).
Манихеи представляли собой некое тайное общество – только для «посвященных», с целой системой обрядов и иерархической лестницей, и это было особенно притягательным «клеем» для молодежи.
На посвящение во «внутренний круг» Августин не претендовал. Манихейские «епископы» давали обет безбрачия, считая, что рождение детей провоцирует рождение зла в мире, а у Августина к тому времени были и гражданская жена, и сын Адеодат. Но в тайном обществе манихеев существовал культ дружбы – они помогали своим материально и делали протекцию в обществе. Честолюбивому юноше, который приехал из Тагасты покорять мир, это не могло не нравиться.
А вот еще одна «вспышка». Девятнадцатилетний Августин читает сочинение Цицерона «Гортензий». Оно буквально переворачивает его душу: только в юности прочитанная книга может вот так, в одночасье, полностью изменить всю жизнь. Сочинение Цицерона пробудило в нем жажду мудрости, глубоких познаний в философии, ему вдруг стало мало одной риторики – умения красиво, эффектно говорить.
После «Гортензии» Августин много и с жадностью читает книги по философии, диалектике, геометрии, арифметике… Он даже осилил сочинение Аристотеля «Десять категорий», которое его учителя называли «божественно» недоступным и признавались, что не вполне его понимают.
Правда, после этого Августина занесло в секту «математиков», где истину искали путем сложных исчислений, но в то время он был горд своей интеллектуальной победой.
Окрыленный успехами, Августин решил заодно освоить и Священное Писание, но не смог его одолеть. Он очень образно описывает в «Исповеди» этот свой юношеский опыт:
«И вот я вижу нечто, для гордецов непонятное, для детей темное, как здание, окутанное тайной, с низким входом, которое становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше…»
Лишь позднее Августин поймет, что тот «низкий вход», куда можно войти, только склонив голову, – христианское смирение, которого у него тогда и близко не было.
После учебы Августин на какое-то время вернулся в Тагасту, стал преподавать детям риторику.
Отец его к тому времени умер, и, должно быть, на столичную жизнь просто не было денег.
Но Августин нашел возможность снова вернуться в Карфаген. Вместе с ним в большой город перебралась и его мать Моника, здесь жила и его конкубина с сыном – он ни разу нигде не назовет имени этой женщины, с которой был связан около пятнадцати лет.
В Карфагене Августин занялся все тем же – «продавал победоносную болтливость», то есть преподавал риторику. Его любили ученики, да и сам он был талантливым, неординарным учителем, а для многих и добрым другом. Ему было хорошо знакомо это чувство дружбы, когда, словно на невидимом огне, кто-то «сплавляет между собой души, образуя из многих одну».
«Общая беседа и веселье, взаимная благожелательность и услужливость, совместное чтение книг, совместные забавы и взаимное уважение, взаимное обучение…» – вот чем были наполнены его учительские годы в Карфагене.
В этот период он написал и свое первое крупное сочинение «О прекрасном и соответствующем» в двух или трех книгах. Оно было посвящено римскому оратору Гиерию, которого Августин не знал лично, но восхищался некоторыми его изречениями.
«Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, и его превозносили похвалами», – признается в «Исповеди» Августин, не сожалея о том, что впоследствии это сочинение куда-то затерялось.
«Человека хвалят – и вот его заглазно начинают любить», – выводит он формулу, которой и теперь активно пользуются современные масс-медиа.
Как-то в Карфаген прибыл известный манихейский «епископ» Фавст, о котором с восторгом говорили «свои». Августин тоже загорелся желанием поговорить с ним наедине на научные темы, и в первой же беседе его поразила необразованность прославленного Фавста. Оказалось, что «посвященный» манихей ни в чем не сведущ, кроме грамматики, да и то только потому, что имел «ежедневную практику в болтовне».
Но в обычной жизни Фавст оказался милым человеком, и когда он с приятной улыбкой сознался, что не силен в науках и ничего не может сказать о луне или исчислении звезд, Августин тут же все ему простил. Они даже подружились, обменивались книгами и с удовольствием беседовали о литературе.
Должно быть, эта встреча помогла Августину почувствовать свою образованность, значимость и подтолкнула его к поездке в Рим. Он уже был вполне состоявшимся, а в своих кругах – известным преподавателем риторики, и Августина все больше раздражали «африканские» нравы карфагенской студенческой молодежи. Школы риторики в то время были частными и платными, и студенты могли бесцеремонно ворваться к любому учителю, дерзили, отказывались выполнять трудные задания.