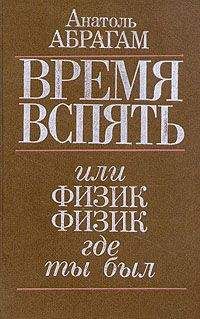Зеленая плесень
…не умер, не сошел с ума …
Странная школа. — Поездка в волчью пасть. — Встреча. — Лишения и угрозы. — От моря в горы. — Спасительная хижина. — Опасный экзамен
Где был я в сентябре 1940 года — гибельном месяце и годе для страны?[10]Мне было двадцать пять лет. После десятилетнего русского детства, которое навсегда оставило свой след во мне и которое казалось счастливейшим периодом моей жизни, следующие пятнадцать лет я прожил во Франции. За плечами был год начальной школы и шесть лет среднего образования, в общем блестящих (если не считать некоторого разочарования в последнем классе). Затем, после года, потраченного на неудачную попытку стать врачом, три года успешных (хотя, по-моему, слишком медленных) занятий в университете до лиценциата, а потом три года "И"Лv/динО" кого "хождения по мукам" в поисках науки — три года, которые, как показало будущее, оказались не совсем бесплодными. Наконец, год "под оружием", когда я выучил уйму совсем ненужных вещей, но когда, общаясь с людьми, подобных которым я никогда не встречал, — батраками, мясниками, кадровыми офицерами и др., — я расширил свой кругозор и возмужал. Год, в течение которого я не видел ни одного немца (это было еще впереди), не слышал ни свиста неприятельской пули, ни взрыва вражеского снаряда, год, когда с артиллерийским училищем я "прокатился" на велосипеде от Фонтенбло до Сен-Сира и прокатился достаточно быстро, чтобы не попасть в плен (а это тоже чего-то стоило)
Да, еще чуть не забыл, у меня был опыт общения с тапирами. Но не об этом я тогда размышлял. "Primum vivere, postea philosophare" ("Сначала жить, а потом философствовать"), говорили древние. Скоро должен был быть обнародован так называемый "устав евреев", который сделал из меня неполноценного гражданина, постоянно находящегося в страхе превратиться в добычу для носителей коричневой чумы и их трехцветных лакеев. В некотором отношении я имел преимущество по сравнению с подобными мне, которые прежде занимали государственную должность. Не имея таковой, я не испытал моральной травмы от ее потери. Но, не имея должности, я вынужден был искать работу. В этом отношении были и благоприятные обстоятельства. С установлением "демаркационной линии", которая разрезала Францию пополам, немалое число зажиточных граждан, и не толь ко евреев, решили переждать исход событий ("Wait and see", как говорят наши англосакские друзья) в южной зоне, куда они прибыли с семьями, спасаясь от немцев. Где лучше всего пережидать, как не на Ривьере (если есть деньги, конечно)? Их детям, среди которых процент "ослов" был выше среднего, нужны были учителя. И много лет "ослы" были моими самыми верными тапирами. Отвечая спросу пришельцев, по всей Ривьере расцвели частные заведения под руководством личностей более или менее компетентных и более или менее щепетильных. Для этих новых школьных директоров "статус евреев" был Божим Даром. Где найти рабочую силу, более дешевую, более покладистую и к томуже более квалифицированную, чем все эти евреи с дипломами, ищущие работу!
По приезде в Канны я встретился с Норой, двоюродной сестрой моего зятя. Нора была красивой, живой, белокурой девушкой (золотистость ее шевелюры немного была обязана искусству) и не проходила по улице незамеченной. (В 1943 году она была арестована гестапо при обстоятельствах, о которых я мало знаю. Ее несчастный отец пошел в штаб гестапо просить об ее освобождении, и его, конечно, задержали тоже. Ее сослали в Равенсбрюк, где она выжила, а вот отец ее не вернулся.) Она преподавала в Сен-Рафаэле (Saint-Raphael), в курортном местечке в пятидесяти километрах от Каинов, в коллеже, т. е. школе, директором которой был некий господин Робэн. Ему нужен был учитель латинского языка, и Нора рекомендовала меня. Лет через десять после этих событий я прочел книги английского писателя Ивлина Во (Evelyn Waugh) гениального юмориста (но отвратительного человека).
В своей первой книге "Упадок и падение* ("Decline and Fall") он описывает с юмором частную школу "Замок Ланаба" (Llanabba Castle), куда попадает учителем оксфордский студент, несправедливо исключенный из университета за "неприличное поведение". Я тоже пострадал, если не за "неприличное поведение", то за "неприличное естество". Если бы у меня была хоть четверть половины таланта Во, я тоже написал бы очень смешно про коллеж Сен-Рафаэля. Не буду стараться смешить, этим я все испорчу, и удовольствуюсь точным описанием, ничего не выдумывая. Я приехал в Сен-Рафаэль к шести часам вечера и сразу отправился в коллеж, большую виллу, где "принципал", как он себя называл, принял меня очень любезно в своем кабинете. Господин Робэн был высок и худ, лет тридцати, с длинными волосами, вьющимися на шее, и с выделяющимся адамовым яблоком. Он был одет в бежевые брюки и голубую рубашку без галстука, широко открытую на груди. Его внешность не совсем соответствовала моему представлению об облике принципала коллежа, даже частного, даже на Ривьере. На самом деле, я никогда не встречал никого похожего на него ни в штатской жизни, ни в казарме.
Я спросил, преподавал ли он сам какой-нибудь предмет? "Географию", — неохотно ответил он и, к моему удивлению, моими дипломами не поинтересовался. "Наверное, Нора ему рассказала", — подумал я. Он кратко сообщил мне об условиях моей работы: 800 франков в месяц на всем готовом, т. е. завтрак и обед в коллеже и комната в пансионе "Мирты" ("Les Myrtes") недалеко от коллежа. Я должен был преподавать латынь во всех классах и по очереди с другими учителями надзирать за вечерними занятиями. Я был еще слишком ошеломлен возвращением к штатской жизни с ее шаткостью, чтобы оспаривать условия моей службы или требовать добавочных подробностей о моих обязанностях. Подробностей, которые мой собеседник, очевидно, был не расположен или не способен сообщить. Закончив наш краткий деловой разговор, господин Робэн включил элегантный радиоприемник, из которого полились звуки вальса, и спросил меня, люблю ли я музыку и есть ли у меня чувство ритма. Я не успел ответить, так как в кабинет вошел коренастый брюнет в темно-синем свитере и матросских брюках того же цвета. У него были густейшие брови, какие я когда-либо видел, простиравшиеся от виска до виска. "Наш эконом, господин Морис", — сказал господин Робэн, очевидно не считая нужным довершить представление. Я, несомненно, не ожидал того, что последовало. Эконом взял принципала за талию, и они закружились под звуки вальса "как вихорь жизни молодой*. "Неплохо для начала", — подумал я.
После нескольких туров и моего вежливого отказа провальсировать с кем-либо из них в кабинет вошла старушка, которую принципал представил как свою тетку, маркизу … (фамилию я забыл). Как выяснилось позже, она-то и была экономом, а господин Морис — только поваром. Маркиза… объявила, что ужин готов. Мы прошли в столовую, где кроме нас четверых был еще мальчик, внук маркизы…, которого господин Робэн тщетно приглашал сесть к нему на колени. Ужин тоже был незабываем. Я был готов к ограничениям в питании, связанным с бедствиями нашей страны, но этот первый прием пищи — тыквенный суп, запеканка из тыквы и тыквенное варенье — не вызвал у меня восторга особенно потому, что я ненавижу тыкву во всех ее видах. Много позже, когда я обнаружил, что американцы с наслаждением едят тыквенные пироги, это заставило меня усомниться, что они цивилизованная нация. Господин Робэн, очевидно, разделял мои вкусы насчет тыквы, потому что ему подавали в глиняных горшочках разные анонимные (и вряд ли тыквенные) блюда. После ужина я попрощался с хозяевами и отправился разыскивать свое новое жилище. Пансион "Мирты" оказался весьма приятной, объемистой постройкой недалеко от пляжа. Хозяева приняли меня любезно и показали мне мою малюсенькую, но чистенькую комнатку. На следующее утро я явился в коллеж, где встретился с коллегами.