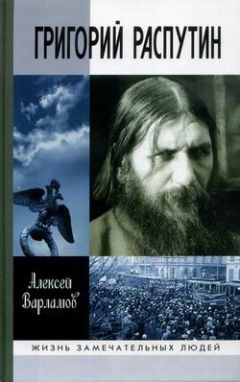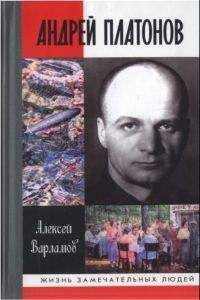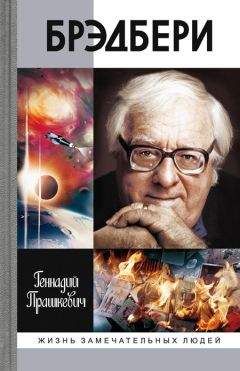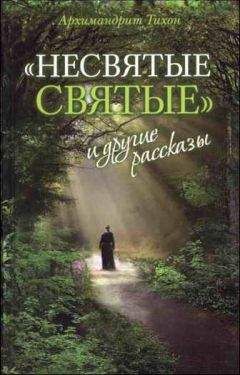52
Генерал Д. Н. Дубенский был историографом Ставки; он оставил свое свидетельство о Распутине, где ничего не говорит о заговоре, но пишет о всеобщей ненависти к Распутину: «Те лица, которых я знал, были полными противниками Распутина, он пользовался среди них полным презрением, ненавистью. Я сам находил, что это погибель для России; нравственный гнет мы все испытывали, и я много раз говорил с Орловым, что нельзя допускать, чтобы такой человек имел влияние. Вероятно, вам известно, что Орлов очень сильно на это реагировал. Так же реагировал и Дрентельн, но каждый по-своему: Орлов был более экспансивен, Дрентельн сдержаннее, он иногда промолчит, но так, что уж лучше бы говорил» (Падение царского режима. Т. 6. С. 379).
Начальник Петроградского дворцового управления.
Месячные.
Старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьев) был тем человеком, кто впоследствии на Поместном соборе вынимал жребий будущего Патриарха.
Ошибалась и Императрица. 3 сентября 1915 года она писала мужу: «Тебе или Фредериксу следовало бы протелеграфировать Самарину, что ты желаешь, чтоб его отправили прямо в Николо-Угрешск, так как если он останется в обществе Восторгова, то они снова заварят кашу против нашего Друга и меня» (Николай в секретной переписке. С. 205). Очевидно, что речь здесь идет об отце Владимире Востокове.
Ср. также в дневнике Палеолога: «Мануйлов – субъект интересный, ум у него быстрый и изворотливый; он любитель широко пожить, жуир и ценитель предметов искусства; совести у него нет и следа. Он в одно и то же время и шпион, и шулер, и подделыватель, и развратник – странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, Роберта Макэра и Видока. А в общем – милейший человек» [Палеолог М. Дневник посла. С. 439).
Хотя, как следует из письма Императрицы от 17 декабря 1916 года, своих намерений Батюшин не оставил. См. с. 684 настоящей книги.
Уже находясь в Екатеринбурге, Александра Федоровна записала в дневнике: «Получила кофе и шоколад от Элы. Она выслана из Москвы и находится в Перми (мы прочли в газетах)» (цит. по: Мейлунас А., Мироненко С. Николай и Александра. С. 609). Сестрам оставалось жить ровно два месяца.
Сын священника Литовской епархии, служившего в 1916 году в одном из запасных батальонов в Финляндии и весьма плохо заявившего себя. – Прим. протопресвитера Шавельского.
Епископы и митрополиты при приветствиях обменивались с царем, царицей и прочими высочайшими особами взаимным целованием рук, а Распутин подставлял только свою руку. Несоблюдение каким-либо митрополитом этой церемонии никогда не простилось бы, а Распутину это сходило, как должное. Что же такое после этого представлял Распутин в глазах царской семьи? – Прим. протопресвитера Шавельского.
Закладка происходила 5 ноября 1916 года. В этот день царица писала Государю: «Закладка церкви Ани прошла хорошо, наш Друг был там и милый епископ Исидор, епископ Мелхиседек и наш батюшка и т. д. были там… Только что видела нашего Друга – скажи ему по-хорошему привет. Он был очень весел после обеда в Трапезе, – но не пьян» (Письма. Т. II. С. 229—230). – Прим. протопресвитера Шавельского.
Книга вышла в 1921 году под названием «Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок». Возникла в процессе работы поэта (с мая 1917 года) в качестве одного из литературных редакторов стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством. Названный здесь документ Блок поместил в «Приложении». – Прим. ред.
То есть от самого Ф. Юсупова.
Имеется в виду Лжедмитрий I (ок. 1580—1606): настоящее имя Юрий Отрепьев; в 1600-м принял постриг под именем Григория. – Прим. ред.
Такое определение, на наш взгляд, митрополит Вениамин скорее всего был готов дать митрополиту Антонию (Храповицкому).
Матрене Распутиной, А. А. Пистолькорс, Ольге Лохтиной.
«Мой лунный друг» (1923) – так назвала 3. Н. Гиппиус свое эссе-воспоминание о Блоке («Наши отношения можно бы назвать дружбой… лунной дружбой. Кто-то сказал, впрочем <…>, что дружба – всегда лунная, и только любовь солнечная»). – Прим. ред.
Если все, что написано в этом документе, правда, то впечатление он производит устрашающее. Варнава не только говорил о том, что «хочет работать с большевиками» и что он «разошелся со своими, которые всегда были против меня, потому что я из простого народа пришел в архиереи», не только утверждал, что, «если собор или патриарх задумают отлучить меня от Церкви, я не буду обращать на это внимания», но и доносил на митрополита Агафангела, митрополита Кирилла, архиепископа Евлогия, протоиерея Иоанна Восторгова, обер-прокурора А. Д. Самарина, а также обещал работать осведомителем в ВЧК («я берусь узнать, если мне дадут возможность вести деятельность на свободе, и все, что узнаю, сообщу Чрезвычайной Комиссии» (цит. по: Религия и Церковь в Сибири. Вып. 2. С. 84—88). «О том, что это была самая беззастенчивая ложь, свидетельствует все последующее служение архиепископа Варнавы, – пишет С. В. Фомин. – Нам неизвестны никакие его особые заявления или обращения, высказанные им на свободе, в духе этих явно сфальсифицированных чекистами "пыточных записей". Неведомы нам также какие-либо его действия или даже просто высказывания в пользу живоцерковников или обновленцев. Тем не менее сначала большевицкой дезинформации поверили. Патриарх Тихон писал, например, по этому поводу митрополиту Антонию (Храповицкому) 24 сентября 1918 года: "А Варнава-то отличился"» (Фомин С. В. Последний Царский Святой. С. 508). А далее Фомин приводит два документа, из которых следует, что патриарх Тихон сначала запретил Варнаву в служении, но тот уклонился от получения этого приказа и, испросив прощения, сказал, что «пойдет именем Господним "странником"», однако в дальнейшем Варнава к Тихону явился, сказал, что «1) никаких намерений создавать какую-то Советскую Православную Церковь не имел и не имеет, и своих услуг в этом деле не предлагал, 2) приписываемых ему слов и отзывов о церковных деятелях решительно не помнит, чтобы произносил их» (там же. С. 510—511). После Тихон благословил Варнаву на совершение богослужений.