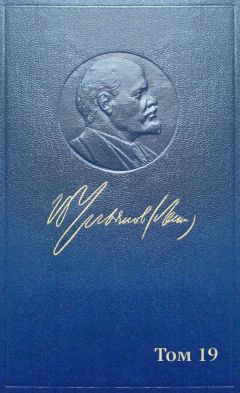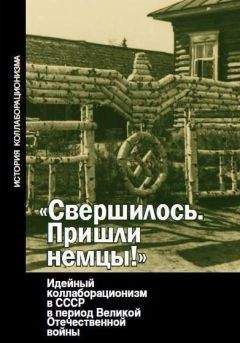Всегда живо следили Вы за волнениями мировой жизни и чутко отзывались на все больные вопросы человечества, был ли то голод, война, гонения за веру, рабочее движение, еврейские погромы, и голос Ваш звучал и звучит над миром колоколом правды, добра и свободы».
Л. Н. рассказывал, почему он решил никогда не выступать в печати с опровержением того, что про него пишут:
— Когда я жил у Тургенева в Петербурге, из Москвы приехал Мефодий Катков, который просил меня и Тургенева от имени брата дать что‑нибудь в «Русский Вестник». Я не обещал ничего, а Тургенев по свойственной ему доброте, довольно, впрочем, неопределенно, сказал, что, может быть, что‑нибудь даст.
— Вскоре после этого кружок писателей в Петербурге — Некрасов, Тургенев, я, Панаев, Дружинин, Григорович — соединились как бы в союз и решили печататься только в «Современнике». Когда Катков узнал об этом, он печатно выступил с обвинением Тургенева в том, что он будто бы нарушил данное им ему слово. Тогда я написал Каткову письмо с просьбой напечатать его, в котором опровергал, как свидетель, заявление Каткова и доказывал, что Тургенев ничего Каткову не обещал.
— Катков сначала этого письма вовсе не напечатал, а потом напечатал, но в таком искаженном виде, что оно получило совсем не тот смысл. С тех пор я дал себе слово ни с какими опровержениями в печати никогда не выступать.
Говорили о нашем правительстве.
Л. Н. обратился к Сергеенке:
— Знаете, Петр Алексеевич, я хочу основать общество, члены которого обязались бы не бранить правительство.
Сергеенко и другие возразили, что хотя и правда — этой темой злоупотребляют, но все‑таки, когда правительство мешает свободно жить, свободно дышать, трудно не бранить его.
Л. Н. сказал на это:
— Нужно только помнить, что правительство, как бы сильно и жестоко оно ни было, никогда не может помешать настоящей, единственно важной, духовной жизни человека.
Да и что удивляться, что правительство жестоко, дурно? Таким оно и должно быть. Комары кусают, червяки точат листья, свиньи роют навоз — все это им подобает, и возмущаться этим совершенно не стоит. Я помню, много лет назад — вот мои сыновья высокие, бородатые, а тогда еще детьми были, — я вошел как‑то внизу в Хамовниках в столовую и увидал, как солнечный луч из окна падал через всю комнату и светлым пятном остановился на буфете, стоявшем у противоположной стены. Форточка была неплотно прикрыта и шевелилась от ветра, и с ней вместе бегал по буфету светлый кружок. Я вошел, указал детям на светлое пятно и крикнул: «Ловите!» Они все кинулись наперебой ловить светлый кружок. Но он бегал, и поймать его было трудно. Если же удавалось кому‑нибудь наложить на него руку, он оказывался сверху руки. Вот так и духовная сущность человека; как ее ни скрывай, как ни старайся подавить, затушить, она всегда остается та же, неизменная.
По поводу литературного сочинительства Л. Н. сказал:
— Если кого‑нибудь спросить: «Вы играете на скрипке?» и он ответит: «Не знаю, не пробовал, может быть, играю», над ним посмеются. А между тем про писательство постоянно говорят именно так: «не знаю, не пробовал», как будто стоит только попробовать и станешь писателем.
Л. Н. сказал про евреев:
— Есть три категории евреев. Одни — верующие, религиозные, чтущие свою религию и строго следующие ее обрядам. Другие — космополиты, стоящие на высшей ступени сознания, и, наконец, третья, средняя, едва ли не самая многочисленная часть, по крайней мере интеллигентных евреев, — это люди, скрывающие и даже стыдящиеся своего еврейства и в то же время враждебные другим национальностям, но как бы прячущие свою вражду под полой. Насколько все мои симпатии на стороне первых двух, настолько мало мне симпатичны третьи.
Л. Н. возмущался материализмом большинства американцев, их непониманием, полной неспособностью понять истинную духовную жизнь.
Он рассказал про одного из американских миллиардеров:
— Он пожертвовал пять миллионов долларов на какой- то университет, а в то же время прибавил на керосин по одному центу на кило и оставил эту прибавку и тогда, когда давно уже окупил свои пять миллионов.
У Л. Н. был Вересаев. Л. Н. нашел его незначительным, неинтересным. Л. Н. сказал:
— В нем ничего нет. Он обладает известной способностью описания, но больше ничего. Совсем незначительный человек.
Говорили о религии. Л. Н. сказал:
— Руссо высказал совершенно справедливую мысль, что еврейская религия признает одно откровение — прошедшее; христианская — два: прошедшее и настоящее, а магометанская — три: прошедшее, настоящее и будущее. Исторически это несомненно поступательное движение. Христианство выше иудейства, которое отжило — все в прошлом, а магометанство выше христианства: в нем нет тех суеверий, того идолопоклонства. Для меня самого, разумеется, христианство выше всех религий, но я говорю о христианстве не как о высшем религиозно — нравственном учении, а как об историческом явлении. И как всегда на крайних полюсах — много общего, так и здесь: и иудейство и магометанство строго придерживаются единобожия, и в том и в другом нет пьянства; а в историческом церковном христианстве — и многобожие, и всякая тьма, и жестокость, все получает свое оправдание и даже поощрение.
3 октября. 1–го был в Ясной. Л. Н. много говорил о Шекспире, к которому относился отрицательно. Л. Н. работает над статьей о Шекспире.
14 апреля. На Рождество Александра Львовна устроила во флигеле для крестьянских ребят елку. Не знаю по какому выбору, но за недостаточностью помещения пускали не всех. Л. Н. со мной и еще, не помню, кто‑то третий пришли позже, когда елка уже была в разгаре. У дверей флигеля стояли не попавшие в число приглашенных. При нашем появлении матери стали просить Л.H., чтобы он провел их ребятишек. Он взял двух или трех. На елке было жарко, светло, трещали ярко горевшие свечи, пахло подожженными ветками. Мы скоро вышли оттуда. Л. Н вздохнул и сказал:
— Как это нехорошо! Одни там, а других не пускают. У нас, когда дети были маленькие, Софья Андреевна всегда устраивала елку, и на нее сходились крестьянские дети. Раз они занесли скарлатину, и с тех пор их перестали пускать; только выбирали некоторых, известных. Я помню, раз наверху была елка, а я внизу лежал на диване (там, где теперь библиотека), и мне было мучительно стыдно и больно думать о столпившихся там за дверьми, которых на елку не пускают. Я помню, я не выдержал, вышел на двор и дал им три рубля и сделал, разумеется, еще хуже — они стали об этих деньгах спорить и ссориться, деля их, и как это было отвратительно, стыдно и тяжело!