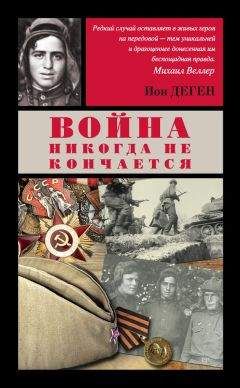Я схватился за парабеллум. Гауптштурмфюрер слегка улыбнулся и продолжал:
– Вам, по-видимому, нет еще двадцати лет. В вашем возрасте и, к сожалению, даже позже я тоже слепо верил. Я видел, как идейных национал-социалистов оттирает всякая шваль – люмпены, карьеристы, уголовники. Вас ведь удивило, что я всего лишь гауптштурмфюрер. Честным людям нет места при любом социализме. Убьете вы меня или не убьете, для меня все кончено. Германия кончена. Даже ваш фюрер завершил бы это, уложив еще несколько миллионов иванов. Но ваши союзники высадились пять недель назад. Это ускорит конец. Обидно. Но еще обиднее, что одна фашистская система побеждает другую.
Я снова откинул клапан кобуры пистолета. – Если вы уцелеете в этой бойне, у вас еще будет возможность убедиться в справедливости моих слов. И поверьте мне, вы перестанете гордо заявлять, что вы еврей. Фашизм всегда фашизм. Коричневый или красный. Увидите, какой антисемитизм расцветет в вашей стране. Обидно, что социализм оказался химерой. Но существуют законы природы, и против них не попрешь. Нельзя создать перпетуум-мобиле.
Личность моя раздваивалась. Этот гнусный фашист клеветал на мою родину, на мою святыню, за которую я шел в бой. Мне хотелось тут же застрелить эту гадину. Но вместе с тем непонятная, непозволительная, подлая симпатия к сидевшему напротив меня человеку демобилизовала во мне все то, без чего мой танк был бы просто грудой бесполезного металла.
Мне стало стыдно, что я такой слюнтяй, что я сейчас не мог нажать спусковой крючок парабеллума. Я приказал солдатам увести его в штаб полка.
Сделав несколько шагов, гауптштурмфюрер остановился:
– Младший лейтенант, возьмите это на память. Он протянул мне автоматическую ручку удивительной красоты – красную, с вкраплениями перламутра, с изящным золотым пером, с золотым кольцом вокруг колпачка и таким же держателем. Как она не попала в поле зрения славян, взявших его в плен?
Экипаж обогатился более существенными трофеями – консервами и водкой.
Мы завтракали, когда вдруг появился забытый нами Варивода и приказал танку следовать в фольварк, из которого взвод спустился в Вильнюс.
Накрапывал теплый дождик. Танк перевалил через железнодорожные пути и медленно поднимался по уже знакомой улице мимо кладбища.
Я был пьян. От водки. От сознания, что выжил в пятидневном аду. От силы, прущей из каждого мускула.
Общевойсковой капитан поднятой рукой остановил мою машину.
– Гвардии младший лейтенант, это вы командир взвода?
– Я. – С вами хочет побеседовать товарищ Эренбург, – капитан ткнул указательным пальцем в сторону кладбища.
На мраморной плите сидел Илья Эренбург в черном, блестящем от дождя немецком плаще. Напротив сидел немецкий генерал. Несколько солдат с автоматами охраняли эту группу.
Илья Эренбург! Как мне хотелось поговорить с ним! Пламенные статьи Эренбурга и «Василий Теркин» Твардовского воевали рядом со мной. И вот сейчас, здесь, в нескольких метрах от меня настоящий, живой Илья Эренбург и почему-то хочет побеседовать со мной.
Откуда мне было знать, что вчера в Москве прогремел салют – двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий в честь взятия Вильнюса. Эх, мне бы двадцать выстрелов из одного моего танка! Уверен, что салют не стал бы менее громким, если бы стреляли только двести двадцать три орудия.
Но это я так думаю сейчас. В ту пору подобная крамола не могла забраться под мой пропыленный и промасленный танкошлем. И конечно, я не знал, что в приказе Верховного главнокомандующего среди особо отличившихся частей назвали Вторую отдельную гвардейскую танковую бригаду и добавили к ее многочисленным титулам звание Вильнюсской за то, что из восемнадцати танковых взводов бригады воевал только один, а еще точнее – из шестидесяти пяти воевало только три танка. Уверен, что Верховного главнокомандующего не волновали подробности, которых он к тому же не знал. Но дотошный Эренбург, наверное, знал. И может быть, именно поэтому он хотел побеседовать с младшим лейтенантом.
А уж как младший лейтенант хотел побеседовать с Эренбургом! Прочитать бы ему мои стихи. Но ведь я же, свинья, надрался. От меня же разит водкой на километр. И гимнастерка моя заправлена в брюки. И парабеллум торчит на пузе. Не стану же я объяснять Эренбургу, что в танке нельзя иначе.
Эренбург посмотрел на меня из-за кладбищенской ограды грустными еврейскими глазами. Мундштуком трубки, как крюком, он оттянул и без того оттопыренную нижнюю губу.
Мне так хотелось подойти к нему! – Виноват, товарищ капитан, мне приказано немедленно прибыть в бригаду.
К сожалению, капитан, по-видимому, не знал, что исполняется последний приказ. Он даже не повторил приглашения.
Много лет я укорял себя за малодушие. Иногда я представлял себе, как эта встреча могла повлиять на мою судьбу. Только значительно позже я понял, что все должно было быть, как случилось. И пять дней штурма в Вильнюсском гетто. И встреча с евреями-партизанами. И потом, через две недели, оцепенение в Девятом форту в Каунасе, когда я стоял перед горой детских ботиночек и слезы, как расплавленная лава, текли из моих глаз. И сбывшееся пророчество гауптштурмфюрера, которого случайно, как мне показалось, я не пристрелил.
Все должно было случиться как случилось, чтобы сегодня я вспоминал о Вильнюсе у себя дома, в Израиле.
1990 г.
Постскриптум с Барухом Шубом
До этого дня, до шестидесятилетия со дня Победы, мы были знакомы с Барухом Шубом лет двадцать пять. Мне нравился этот старый ветеран. Да и он, я ощущал, симпатизировал мне. Поэтому согласился участвовать в радиопередаче второго, главного канала израильского радиовещания, на которую нас и еще моего друга Авраама Коэна, председателя Союза воинов и партизан инвалидов войны с нацизмом, пригласил видный журналист Ицхак Ной. Передача, посвященная шестидесятилетию Победы над Германией, транслировалась вечером восьмого мая.
Передача уже приближалась к концу, когда журналист спросил Авраама Коэна, где он встретил День Победы. «В госпитале», – ответил Авраам. Такой же вопрос Ицхак задал мне. И я ответил: «В госпитале». Затем журналист спросил об этом Баруха. Ответ отличился от нашего. Оказывается, победа не вызвала всплеска эмоций подобных нашим, у небольшой группы евреев, бывших партизан, оказавшихся в Румынии, через которую они пытались нелегально пробраться в Грецию и дальше в Палестину, прикрываясь фальшивыми документами. Конечно, они не могли не обрадоваться победе. Но слишком сложным, напряженным и небезопасным было их положение в чужой стране. Обстановка была неидеальной для всплеска эмоций.