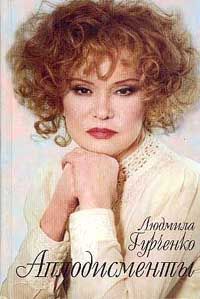Теперь я знаю, что такое физическая травма.
В 1976 году, четырнадцатого июня, я стояла на льду, на коньках — на съемке… На съемке! Я была так счастлива, снимаюсь в музыкальной картине и играю параллельно острую драматическую роль, об этом я мечтала. Кончилось, кончилось долгое и изнуряющее время простоя. Работа! Я тебя дождалась, здравствуй! Папочка, дорогой! Как бы ты был счастлив, если бы дождался вместе со мной! Мне так сейчас хорошо, это — почти состояние эйфории. Да, точно — эйфория от счастья.
«Эйфория» кончилась в секунду. Цирковой клоун шутил на льду, упал мне на ногу, и она сломалась. Просто и быстро.
Кажется, что могут умереть все, но не ты. Человек попал в катастрофу, а я — нет, я не попаду…
И моральная травма, и физическая очень похожи. Обе хочешь забыть поскорее, как тяжелый сон. Обе вынуждают вести себя и жить по-другому. Обе оставляют рубцы. Обе заставляют постоянно задавать себе вопрос: «болит или не болит?», «прошло или не прошло?» И обе, нанося поражение, удар, потом, впоследствии, приносят победу. Травмы заставляют тебя пережить наивысший пик трагедии и счастья! И когда в роли есть хоть намек на подобное — тебе все ясно, потому что у тебя такой «потолок», такой запас перенесенного!
Можно прожить на экране драму, трагедию человека только тогда, когда ты сам пережил в жизни что-то похожее, хоть приблизительно. Рассказать об этом нельзя. То есть рассказать как раз можно, но научиться этому нельзя. Тогда можно «сыграть», но не «прожить». А «играть» — нельзя. Стыдно.
… Тогда, в детстве, я металась со своей травмой. Я еще долго не знала этого загадочного и красивого слова — «травма». Тогда чаще употребляли прозаическое слово — «горе». После «букета шиповника» я помню свое состояние, но сформулировать его могу только сейчас. Это ощущение физической боли в сердце, напрасной затраты душевного порыва, своей ненужности я должна была уладить в себе, найти утешение своими словами. Обязательно!
Я ходила по городу, по излюбленным и изученным развалинам и старалась ни с кем не знакомиться, не общаться. Зашла я и в Ботанический сад. Специально зашла. Чтобы проверить — «болит или не болит», «прошло или не прошло». Еще не прошло… Я бесстрашно смотрела на куст шиповника. На нем не было ни одного цветка! «До свадьбы заживеть, дочурка моя дорогенькая».
Я набрала в карман самых красивых патронов и отправилась домой. Мама с тетей Валей с утра ушли на работу в кафе.
Все, что мама приносила с базара, мы раскладывали на широком мраморном подоконнике и на железной печке, если она не топилась. Свои «игрушки» я тоже расставила на печке. Огрызком карандаша для бровей, который для мамы «оторвала от себя» тетя Валя, я нарисовала глаза, нос и рот на разноцветных головках этих патронов. Каждую обвязала тряпочкой, как платочком. У меня получилось сразу десять кукол. Я расставила их по цветам, как близнецов. Впереди стояли малиновые близнецы — самые красивые. И всем дала имена.
Я с ними возилась целый день. А потом пришла мама с тетей Валей. Когда мама увидела у меня кукол… на плите! Что было! Вначале, тут же, по инерции, удар по физиономии. А потом… И что я хочу взорвать квартиру, и что я использовала весь ее карандаш — где теперь такой достанешь! И, конечно, какая она несчастная, что я такая же, как он, — все тяну из мусорника в дом. Потом включилась тетя Валя.
— Доця! Ты что, в самом деле? Ты же уже большая! Эти патроны стреляют, и мы можем все погибнуть, доця! Леля! Ты права. Дети — это же тихий ужас! Пусть лучше она ходит с нами… Нет! Новое дело! Это же кому сказать… Товарищи! Приходим домой, а тут остался один пшик…
Куколок своих я вынесла в развалины, поставила их в ряд и с каждой из них попрощалась. Это были трассирующие пули.
За куколок я стояла в углу на коленях — там меня часто забывали. Вначале это наказание казалось обидным и унизительным. А потом я его нашла интересным, даже стремилась к нему. А что? Стоишь себе, смотришь в угол. Колупаешь ногтем стенку. Никто тебя не шпыняет. Ты не лезешь, и к тебе не лезут. И обида постепенно отходит, становится легче. В голову приходят всякие фантазии, видишь разные светлые довоенные «картинки». И когда уже о тебе вспомнили, и пора вставать — с большой неохотой расстаешься со своим особым миром. И приходится изображать на лице обиду, а то моя «зоркая мама» сразу поймет, что стояние в углу — не самое плохое наказание. И, не дай бог, заменит его на что-нибудь новенькое…
Когда моей дочке Маше приходилось стоять в углу, я украдкой за ней наблюдала. Она совсем на меня не похожа. Ни характером, ни внешностью. Она любит петь, но поет нечисто. Удивительно пластична, прекрасное чувство ритма, а поет нечисто! Ну неужели ничего «моего» нет? Не может так быть, так не бывает.
Точно. Когда она стояла в углу, я с удовлетворением замечала знакомые проявления: мой ребенок, счастливый, что его оставили в покое, стоит себе в углу на коленях, колупает стенку ногтем. А через некоторое время из угла даже доносится робкое:
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо; пусть всегда будет мама…»
Я не пела. Она явно пошла дальше меня. Вот жалко только, что поет нечисто…
Опять бои, опять пожары, опять орудийная перестрелка, опять бомбежки… Опять немцы отступают и взрывают все, что невозможно забрать с собой. И опять наготове: с мешками, ведрами и корзинами жители города — все, кто вынес голод, холод, расстрелы, казни, облавы и душегубки.
Тетя Валя выведала, что неподалеку у немцев есть медицинский склад.
— Леля! Представляешь… мы с тобой приносим ящик пенициллина! Ты подумай, как его можно выгодно продать… Леля! Идем. Это самое выгодное дело сейчас.
Слово «пенициллин» только-только появилось на базаре. Раньше — «сахарин, сахарин», а теперь — «пенициллин». Он попадал на базар через немецких солдат, которые тихонько продавали его из своих походных аптечек. На базаре говорили, что «пенициллин» — «это тебе не стрептоцид». Это волшебное средство. Помажешь, и рана прямо на глазах затягивается, выпьешь — туберкулез как рукой снимает. И клялись покупателям, что все это видели собственными глазами.
И мама с тетей Валей пошли в поход за пенициллином. Они ушли вечером. Из окна я видела, как они скрылись в темноте по направлению к Клочковской.
Над городом облака дыма, гари и пыли, безостановочная орудийная пальба. Город дышит огнем и дымом, как живой. Непонятно, откуда и куда стреляют, где наши, где немцы. Нет комендантского часа, и впервые вечером на улице люди. Неразбериха, друг друга не слышно, нужно очень сильно кричать, перекрикивать грохот артиллерии, и все это не пять-десять минут, а бесконечно. И если сейчас перенести себя в ту горящую лаву — то ужас берет, когда представишь, как две маленькие хрупкие женщины бесстрашно пошли в ад за пенициллином.