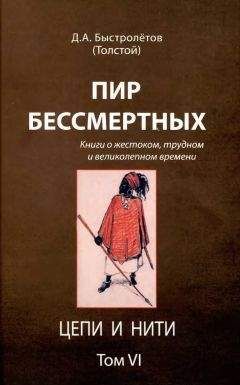— Гм… — задумчиво тянула Иола, снимая с моего пиджака сине-черный волос. — Странно: ведь я рыжая?
— Гм… — рассматривала Фьора рыжий волос, снятый с моей груди. — Откуда он? Ведь у меня волосы как воронье крыло!
Но те, кто любит, — слепы. Они верят. Я тоже горячо любил и глубоко уважал их обеих, но оставался зрячим потому, что больше всего на свете любил серую неопрятную женщину в очках, с толстым томом «Капитала» под мышкой — богиню социальной революции и классовой борьбы. Я никогда не был У нее на поводу — я бежал за ней добровольно. «Я не виновен, — спокойно повторял себе. — Я делаю это не для себя. В конце концов, борьбы без жертв не бывает, и все втроем мы просто жертвы. Я не меньшая, чем они. Нет, большая! Я — воин и герой!» По ночам я возвращался от графини Фьорэллы поздно, часа в три-четыре, и дома в своей спальне опрокидывал в темноте тяжелые стулья.
— Когда вы вернулись, милый? — спрашивала наутро жена.
— В двенадцать!
— Я не встретила вас, простите!
— Вы нездоровы, Иола, и я прощаю вас раз и навсегда. Спите спокойно!
И ночи в двух постелях продолжались — в одной я спал как муж, в другой — как помолвленный жених. Наконец, настало страшное мгновение: я потребовал от Фьорэллы доказательств ее выбора. Она принесла какой-то пустяк.
— Нет, этого мало, — сказал я ей потом. — Мост за собой надо сжечь дотла.
— Но я — честный человек. Я люблю свою родину. Вы хотите сделать из меня шпионку и предательницу?
— Нет. Патриотку. Но другой страны.
Я помню тот вечер: розовые лучи освещали ее сбоку. Она стояла, выпрямившись, и мяла в руках платок. Розовую окраску одной щеки только подчеркивала мертвенная бледность другой.
— Нас разделяет огненная черта; мы говорим через нее, из двух миров. Сделайте смелый шаг. Мы должны быть вместе на жизнь и смерть!
И через несколько дней она ухитрилась привезти пакет, в котором оказались все шифровальные книги посольства. Умоляюще:
— Только на час! На один час!
Я посмотрел на это искаженное лицо и содрогнулся. Товарищ Гольст похлопал меня по плечу.
— Ждите орден. Успех необыкновенный! Фотографии удались на славу!
Дней десять спустя я получил от него вызов. Несся, не чувствуя под собой ног.
— Э-э-э… — начал мямлить товарищ Гольст. — Вы понимаете… Вы знаете…
— Да в чем дело? Говорите прямо! — взорвался я, почуяв недоброе. По спине у меня прошел холодок.
— Москва ответила одним словом: «Законсервировать».
Я сел на стул. Сжал сердце руками. Мы помолчали.
— Живой человек, не рыбный фарш, — сказал я хрипло. — Что значит законсервировать линию, добытую трудом трех лет?
Резидент вяло махнул рукой.
— Ну, ну, спокойнее!
Во мне кипела ярость.
— Я опоганил три человеческие души — любовницы, жены и свою собственную. Три года я делал подлость и теперь, когда для Родины добыл желаемые секреты, вы мне отвечаете: «Не надо!» А где все вы были раньше?!
Резидент пожал плечами и вдруг криво ухмыльнулся.
— Они напугались. Вы разве не поняли?
— Да, я ничего не понял. Если я не боюсь здесь, то им дома чего же бояться?
Резидент злорадно зашептал, перегнувшись ко мне через стол и косясь на запертую дверь:
— Они боятся, что когда начнут читать сообщения московского посольства, то неизбежно можно будет установить учреждение и лицо, выдавшее наши секреты. Поняли? Нет?
Я оторопел: у меня все завертелось в голове. И все же я ничего не понял.
— Ну тем лучше! Поймают предателя! Для этого мы и работаем здесь!
— А если он сидит в…
Тут резидент взглянул на мое лицо, на открытый рот и опомнился. Засмеялся. Протянул мне сигарету. Начал говорить о другом. Случай был будто бы забыт.
Но эту страшную историю я не забыл, и как раз жена впоследствии напомнила мне о ней чрезвычайно больно.
В первый год заключения Иоланта просила передавать ей занимательную литературу. На второй — в ней произошла перемена — стали поступать записки с указанием экономических и политических книг. В течение третьего года мой доверенный юрист получил от нее списки книг по естествознанию, психологии, логике и философии. На четвертом году заключения требования на книги прекратились.
На свиданиях Иоланта держала себя спокойно, ничего не просила и никогда не жаловалась. Потом видеть ее стало нельзя — «за болезненным состоянием». На четвертом году тюремный врач дал справку, что заключенная «страдает прогрессирующим кавернозным туберкулезом, находится в крайне тяжелом состоянии, и летальный исход может последовать в непродолжительном времени».
В тридцать втором году, в дни краткого возвращения буржуазной демократии, она была амнистирована.
В эти годы я наезжал в Вену в два месяца раз, а иногда и чаще. Обычно по приезде я звонил Изольде. Узнав об аресте Иоланты из газет, она сразу же порвала все свои связи и дела в Праге и немедленно переехала в Вену. Устроила свою новую жизнь так, чтобы быть как можно ближе к заключенной. От нее я узнал много такого, чего сам не успевал заметить или узнать во время свидания, и мы помогали Иоланте сообща, я — обеспечивая материальную сторону, а Изольда — организационную.
Отношения между нами в самом начале были открыто враждебными, потом стали вежливо-холодными. Держала себя Изольда с большим тактом, тщательно избегая всего, что могло бы повредить Иоланте или неприятно взволновать ее. Постепенно она стала просто необходимой и выполняла свою роль незаметно и скромно. Четыре года мы встречались в кафе и ресторанах, вместе бегали по магазинам. Много утекло воды, и постепенно время смягчило наши сердца.
На четвертом году мы стали встречаться в кафе и без прямой необходимости для общего дела, шутили и смеялись, однажды были вместе в театре… Лед постепенно таял, и казалось, начинает забываться то, что когда-то разделило нас будто бы навсегда.
Лишь только юрист повел дело об амнистии, Изольда изменилась так, что наши отношения стали по-настоящему теплыми: общая радость сблизила нас совершенно. Когда наметился день освобождения, мы встретились как друзья, обнялись и углубились в составление планов дальнейшего. Решили увезти Иоланту в Швейцарию, предусмотрели все мелочи, заказали билеты… Изольда на лету ловила мои слова и делала все, чтобы выполнить мои пожелания. Наконец, все было готово.
— Как славно, — сказал она, — что Иоланта будет жить: мы вздохнем спокойней! Все хорошо, что хорошо кончается! Но знаете что, — она взяла меня за руки и заглянула в глаза, — эти годы тревог и забот примирили меня с вами. Они кончаются, и… мне жаль разойтись с вами…