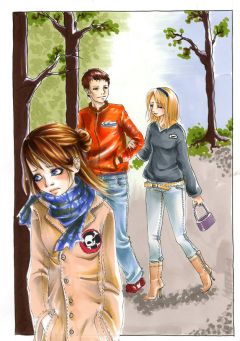Георгий бросает карту и кричит, что снимает с себя ответственность за ориентировку, что мы летим в сторону противника. Его крики и протесты мешают мне разговаривать с радистом, который всё время сообщает данные, и я отключаю штурмана по внутренней связи. В щель приборной доски вижу только, как он размахивает руками. «Ну-ну, покричи», — думаю.
Летим на запад уже минут сорок. Начинают одолевать сомнения, но данные радиомаяка уверенно показывают: правильно. Да и прослушиваться он стал лучше, значит, станция близко. Идем в облаках. Местами проглядывается земля, но привязаться не к чему. И вдруг нас обстреляли. Включаю штурмана.
— Я говорил, что мы летим в сторону противника! — кричит Георгий.
— Но маяк-то рядом, — отвечаю.
— Впереди вижу ракеты! — докладывает Максимов.
Иду на ракеты. Аэродром. Даем: «Я свой». С земли отвечают. Видимость очень плохая, но я уже понял, что мы дома. Заходим на посадку почти вслепую. Сели. Дома. Штурман Рогозин молчит. Изумлен.
Прилетели мы одни из первых. Позже вернулось еще несколько экипажей, остальные приземлились кто где. Краснухин случайно увидел соседний аэродром и сел.
Причиной всему оказался сильный ветер в верхних слоях атмосферы. И наш, и остальные самолеты были унесены на восток и потом в течение нескольких дней собирались на базу.
После этого случая я попросил техника по радиооборудованию Муравьева переделать схему радиообслуживания по нашему желанию. Он дал согласие, и «радиоволшебники» эскадрильи Брисковский, Цибизов и Лысенко переделали схему так, что теперь все члены экипажа по своему желанию в любое время могли прослушать любую радиостанцию.
Очень часто выходила из строя радиосвязь из-за обрыва обледеневшей антенны. Простое средство избавило экипажи от этого несчастья. Эти умельцы изобрели и установили специальный амортизатор, и радиоантенны больше не обрывались.
Кроме того, в каждом полете мы отрабатывали вождение самолета по радионавигационным приборам. Рогозин, наученный горьким опытом, стал наконец доверять радиомаяку, тем более, что теперь мы могли слушать его всем экипажем.
Да, много неприятностей доставляла нам погода. Но иногда она и выручала нас.
Как-то под вечер полетели мы разведать погоду над Ржевым, с тем чтобы, если цель открыта, дождаться темноты, отбомбиться — и домой. На подлете к Ржеву небо как по заказу очистилось от облаков. Солнце еще не зашло, но близилось к горизонту. Ждать темноты не меньше часа.
— Максимов, передай погоду и спроси разрешение бомбить цель, — приказал я.
Через несколько минут пришел ответ: поступайте по собственному усмотрению. Мы сделали разворот, сбросили — бомбы. После ночных полетов заход на цель при свете дня — совсем простое дело. Едва повернули обратно, Максимов докладывает:
— На подходе два «мессершмитта»!
Куда деваться? Уйти — не уйдешь, спрятаться — негде. Вступать в бой с двумя — не под силу. С одним я справлюсь огнем и маневром, а с двумя — тяжело, собьют как пить дать. Разворачиваюсь на восток. Истребители уже на расстоянии выстрела, но немного ниже нас.
Вдруг вижу неподалеку маленькое перистое облачко — словно мазок кисти маляра. Я — туда. Хоть какое-то укрытие. А облачко махонькое, минуты не прошло, как кончилось. Делаю боевой разворот и ныряю ниже облачка.
— Самолеты под нами, — сообщает Максимов.
Направляю наш ИЛ выше облачка.
— Самолеты над нами.
Играли мы таким образом в кошки-мышки минут десять, затем потеряли истребителей из виду. Я еще несколько раз облетел это облачко, спрашиваю Максимова:
— Видишь самолеты?
— Не вижу.
На востоке в шести-семи километрах — стена сплошных туч, из которых мы недавно прилетели. Решаю оторваться от спасительного облачка, только бы проскочить это расстояние незамеченным.
— Наблюдайте за воздухом, будем уходить! — командую я и направляюсь в сторону облачности на полной скорости, со снижением, чтобы быстрее добраться. А Вася следит и докладывает:
— Не видно. Не видно. Не видно.
И вдруг:
— Нагоняют. Оба!
Облака почти рядом, перед носом, а самолет словно замер на месте. Ерзаю на сиденье взад-вперед, как бы помогая ему быстрее двигаться, а истребители всё ближе, ближе. Вот уже Максимов открывает огонь. Длинная пулеметная очередь… И тут мы как в воду нырнули в темную сырую мглу, такую на сей раз долгожданную. На стеклах сразу появилось обледенение, но что это значит по сравнению с тем, от чего мы ушли.
На свой аэродром садились еще засветло, без прожекторов. Заправившись, немного отдохнули и снова пошли на боевое задание.
Пока мы бомбили ближние цели и цели средней дальности, командование совместно с конструкторами проводило работу по подготовке к дальним полетам, по увеличению радиуса действия самолетов. Первым делом следовало увеличить емкости для горючего. Были изготовлены легкие картонные сосуды каплеобразной формы, которые подвешивались на наружные бомбодержатели. После взлета и набора безопасной высоты летчик переходил на питание из этих баков.
По истечении определенного времени питание переключалось на основные баки, а пустые емкости сбрасывались.
Устройство примитивное, но дальность полета значительно возросла.
В середине августа мы совершили налет на военные объекты в районе Данцига (полет длился восемь часов). Продолжая выполнять текущую боевую работу, мы усиленно готовились к самому ответственному заданию — налету на Берлин.
В подготовку включились все — командование, аэродромные службы, сами экипажи, даже медперсонал и работники питания. Для экипажей был разработан особый высококалорийный рацион питания перед дальними полетами, включавший в себя жидкие супы, фрикадельки, масло, печенье и тому подобное. Правда, вопреки настоянию медиков, вскоре мы от этого меню отказались и перешли на обычное питание: борщ, серый хлеб и отбивная с картошкой.
Тщательно изучались предстоящий маршрут, система связи, наведения, светомаяки, приводные. Основное внимание уделялось подготовке материальной части самолетов. При полетах на дальние цели приходилось испытывать такое, например, затруднение, как нехватка кислорода. В последнее время я начал включать кислород уже с высоты 2500 метров — трудно было дышать и вообще самочувствие ухудшалось. По-видимому, сказывалось утомление от беспрерывных полетов. Любопытно, что стрелок-радист Максимов и стрелок Куркоткин начинали пользоваться кислородом только с высоты 5000 метров. Одним словом, к концу полета я оставался без кислорода и из-за этого вынужден был снижаться независимо от обстановки, а у стрелков кислород еще оставался.