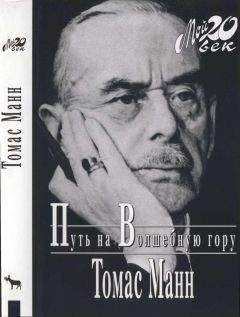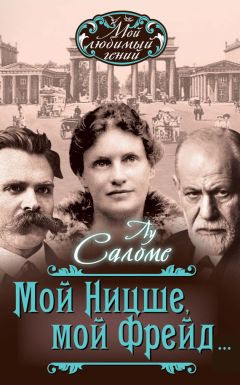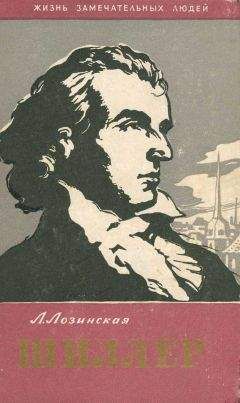Была у меня еще игра в богов — развлечение высшего порядка. Уже по тому имени, которое я дал своему коню, читатель может догадаться о моем раннем увлечении «Илиадой». Действительно, Гомер и Вергилий (я им очень благодарен за это) мне заменили все рассказы об индейцах, которыми я совершенно не интересовался. В одной из книг, по которой в свое время моя мать изучала мифологию (на ее обложке изображена Афина Паллада, и она была из тех, которые детям разрешалось брать в книжном шкафу), содержались захватывающие отрывки из произведений этих двух поэтов на немецком языке. Я их знал целыми страницами наизусть (особенное впечатление на меня производил «острый серп», который Зевс занес над Тифоном — я любил повторять это место), и я рано чувствовал себя в Трое, Итаке и на Олимпе как дома, совсем как мои однолетки — в стране Кожаного чулка. И все, что я так жадно вбирал в себя, я потом старался изображать. Прыгая по комнате, я был Гермесом в сандалиях с бумажными крылышками или, представляя Гелиоса, балансировал блестящей, сверкавшей золотыми лучами короной на умащенной амброзией голове, я безжалостно по три раза волочил вокруг стен Илиона свою сестру, которая — худо ли, хорошо ли — исполняла роль Гектора. Изображая Зевса, я стоял на лакированном красном столике, служившем мне крепостью богов, и тщетно титаны громоздили Пелион на Оссу — так страшно сверкал я красными вожжами, к тому же еще украшенными колокольчиками…
В дружеском письме, за которое я выражаю вам искреннюю признательность, вы делитесь со мной своими тревогами о судьбе школьного сочинения в Германии. Вы называете его историю многострадальной, вы жалуетесь на равнодушие Министерства просвещения ко всяким попыткам провести какие бы то ни было реформы, сожалеете о неудаче этих попыток и просите, чтобы я, если возможно, высказал свое мнение о том, как следует обучать «хорошему слогу», чтобы иметь хотя бы некоторую надежду на успех.
Что на это ответишь? Да и вообще, можно ли ответить на вопрос, затрагивающий лишь часть многосложной проблемы, которая во всем объеме своем еще ждет разрешения, — проблемы массового производства образованных людей в современном мире, — мы эту систему отвергаем, хотя и не знаем, чем можно было бы ее заменить при нынешнем положении вещей. Прежде всего хотелось бы знать, кто мой корреспондент. Кем вы являетесь по своим педагогическим наклонностям и убеждениям — аристократом или, скажем, христианином? Стремитесь ли вы любовно пестовать выдающиеся дарования, способствовать их развитию со всею возможной энергией и щедростью или вы считаете своей задачей заботиться о средних и слабых? Едва ли подобные устремления совместимы. К тому же: кого считать одаренным? Талант не всегда многогранен. Формально — лингвистические способности могут полностью отсутствовать, в то время как склонность к какой‑либо точной науке, скажем, к естественно — техническим дисциплинам, может быть чрезвычайно ярко выражена и даже гипертрофирована до гениальности. Наше время все более решительно отдает предпочтение именно этому роду дарования. Понимание образованности как совокупности формальных знаний скоро станет анахронизмом. Дни классической гимназии, по — видимому, сочтены, да, впрочем, она вообще уже выродилась, утратив в бесконечных уступках не только свой идеализм, но и заложенную в ней идею. Абстрактный гуманизм, гуманитарность — понятия буржуазные. Трудно поверить, что символ «Веймар» сохранит свое значение и для будущего. Пусть этот символ, подобно «треугольной шляпе и шпаге»[70], украсит гробницу буржуазной эпохи. Будущее принадлежит отнюдь не «образованности», культуре, внутреннему миру, «возвышенным душам», оно принадлежит гуманизму, который не будет иметь ничего общего с гуманизмом 1800 года, кроме названия. Но если «формальному образованию» давно пора на свалку, то, может быть, равнодушие школы к вопросу о сочинении вполне соответствует духу времени? И тогда, может быть, ваши педагогические тревоги о судьбе школьного сочинения лишены всякого основания?
Разумеется, это не так. Пока существует человечество, будет жить и мир явлений и чувств, которые остаются не выраженными в слове, если верное слово не найдено. Это — мир великих писателей и поэтов. Уж не думаете ли вы из каждого обыкновенного школьника, жизнерадостного и непосредственного, воспитать мастера художественной прозы или поэта? Не говоря о том, что успех здесь вообще невозможен, даже само стремление к успеху следует осудить со всей решительностью. Искусство писать, как и всякое искусство, есть плод особого рода возбудимости, которая не может быть общечеловеческой нормой. Вовсе не желательно, чтобы человечество состояло из одних ясновидцев, обладающих обостренной чувствительностью, и если нет таланта — а ведь это мучительное бремя, которого не пожелаешь обыкновенному человеку, жизнерадостному и непосредственному, — то подобный педагогический эксперимент может привести лишь к напыщенности и отталкивающей вычурности.
Но одно дело творчество, а другое — умение и навык излагать мысли на родном языке так, как это требуется, то есть гладко, вразумительно, с известной непринужденностью и не без некоторого изящества. Без этого немыслима культура, даже самая современная, самая реалистическая и демократическая, и в Германии, в этой «нелитературной стране», как я когда‑то назвал ее, говоря об иных, более общих проблемах, этого следует требовать и добиваться повсюду и ото всех.
Когда‑то я собирался написать пространную статью, тему которой невозможно определить одним словом. В ней должна была идти речь о соотношении духовного склада немцев и формы его словесного выражения, и, может быть, я поступил неправильно, оставив эту работу незавершенной. У меня до сих пор еще хранятся кое — какие материалы, которые я собирался использовать для этой работы. В одной из крупных газет однажды была напечатана статья за подписью известного ученого, профессора высшей школы, которая начиналась следующим образом:
«Относительно запроса имперского советника графа X. В соответствии с Вашим пожеланием по поводу моего высказывания в связи с вышеупомянутым запросом, я могу только отметить, что направленность данного запроса не может не вызвать моего одобрения. Целью запроса является увеличение дохода от нашего государственного лесного хозяйства, и, несомненно, он должен встретить одобрение самых широких кругов».
Это звучит омерзительно. Так писать нельзя. Так не смеет выражать свои мысли человек, принадлежащий к нации, которая знает немало высочайших взлетов в истории своего культурного развития, даже когда речь идет о самых прозаических, о самых низменных материях. Это просто позор. Разумеется, вопросы национальной экономики не могут служить темой лирических излияний, но известная взаимосвязь практического с совершенным, иначе говоря, с прекрасным, есть непременное условие человеческого достоинства — всякого человеческого достоинства, даже послевеймарского, а литературное убожество вроде того, что я здесь цитировал, ниже этого достоинства, — к сожалению, мы этого не ощущаем.