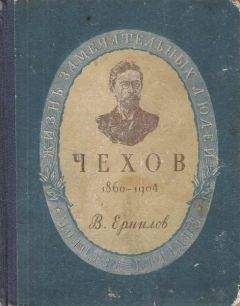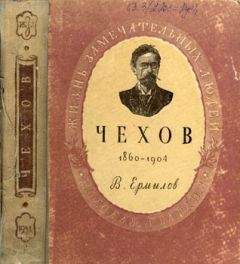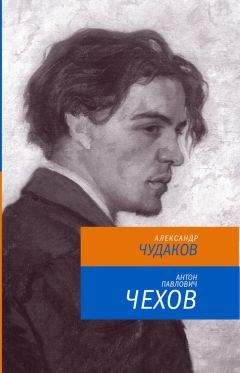Письмо Антона Павловича к Николаю, приведенное выше, было очень серьезным и — при внешней сдержанности — резким «выступлением», особенно если вспомнить болезненное самолюбие, вспыльчивость, нетерпимость Николая.
Письмо представляет собою подлинный кладезь мудрости. Вчитаемся в него: есть ли тут хоть одно слово, которое было бы неприемлемо и для нашего времени и для нашей молодежи? Конечно, наша молодежь поставит все это в иную идейную связь, подчинит все пункты чеховского кодекса идеалу воспитанного человека Советской страны. Но этот идеал включает в себя и все то, о чем писал Чехов в своем письме.
Как мудро отделяет Антон Павлович природные хорошие свойства Николая, не стоившие ему никакого труда, от таких свойств, которые нужно воспитывать в себе, культивировать! Культура — это то, что человек привносит в природу, изменяя ее. Воспитанный человек и культурный человек, с точки зрения Чехова, одно и то же. Поэтому Чехов и не мог считать интеллигентным человеком всякого окончившего высшее учебное заведение.
Для того чтобы быть добрым и талантливым человеком, каким был Николай, надо было просто родиться таким. Но для того чтобы быть достойным природного дара, стать не просто одаренным человеком, а талантливым работником — для этого нужно воспитывать свой талант, трудиться над ним.
Талант — это культура таланта.
А. П. Чехов (слева) с братом Николаем
Николай не заботился обо всем этом. У него не было уважения к своему талайту.
Он мало читал, работал лишь «по вдохновению» и уже в двадцать шесть — двадцать семь лет перестал идти вперед.
В отличие от Николая Александр Павлович был образованным человеком. Обладая замечательной памятью, он был ходячей энциклопедией. Он был талантливым химиком, знатоком философии, истории, лингвистики. Крупные ученые требовали, чтобы на специальных заседаниях научных обществ в качестве репортера присутствовал Александр Чехов, умевший прекрасно ориентироваться в сложных научных вопросах.
Но у него не было «общей идеи», мировоззрения. Его писательский труд не был вдохновлен большой целью, мечтой, страстью.
Талант — это знание жизни. Талант — это смелость.
«А ты знаешь, что значит талант? — спрашивает в «Дяде Ване» Елена Андреевна Соню. — Смелость, свободная голова, широкий размах…»
«Талант у него большой, — писал Чехов о Билибине, — но знания жизни ни на грош, а где нет знания, там нет и смелости».
Александр признавался Антону Павловичу в том, что он мало знает жизнь. Это может показаться странным: репортер «Нового времени», крупнейшей столичной газеты, по своей профессии осведомленный «обо всем», грустил о том, что не знает жизни. Но его знание жизни было поверхностным. Он не участвовал в жизни, а лишь наблюдал ее.
Талант — это свобода, в том числе «свобода от страстей», писал Чехов, подразумевая под «страстями» не те великие творческие страсти, без которых нет таланта, а «неукрощенные», примитивные страсти.
Старшие его братья — увы! — были рабами своих страстей, рабами быстро сменяющихся настроений, рабами алкоголя.
Но, прежде всего, с точки зрения Чехова, талант — это труд.
Горький, так глубоко понимавший цену труда и трудовых людей, писал о Чехове:
«Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как Антон Павлович».
Для обоих — и для Горького и для Чехова — труд был самым важным в жизни и каждого отдельного человека и всего человечества. И не было для обоих ничего более прекрасного, благородного, человечного, чем труд!
Бунин рассказывает, что при первом же знакомстве Чехов спросил его, много ли он пишет.
«Я ответил, что мало.
— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном. — Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… Всю жизнь.
Это были любимые темы Чехова — о том, что «надо работать не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым.
Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в той художественной атмосфере, которая так раскрывает глаза художника, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе и говорил:
— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь!.. Работник! Хотите, парочку продам?»
Волю и привычку к труду не покладая рук Чехов начал воспитывать в себе с шестнадцатилетнего возраста и уже в полной мере обладал ею в свои двадцать один — двадцать два года, когда он начал вести борьбу за воспитание такой же воли и привычки у своих братьев. Он не уставал жестоко разоблачать отсутствие воли к настоящему труду у Александра.
«Все те рассказы, — писал он брату в апреле 1886 года, — которые ты прислал мне для передачи Лейкину, сильно пахнут ленью. Ты их в один день написал? Из всей массы я мог выбрать один отличный, талантливый рассказ… Лень не рассуждающая, работающая залпом, зря… Уважай ты себя ради Христа, не давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не больше двух рассказов в неделю, сокращай их, обрабатывай, чтобы труд был трудом».
В другом письме Чехов пишет брату, отсылая ему обратно его рукопись:
«Умудрись прежде всего переменить название рассказа. И сократи, брате, сократи… Сократи больше, чем наполовину. Вообще, извини пожалуйста, я не хочу признавать рассказов без помарок».
При своем многописании, к тому же соединявшемся в первые годы после окончания университета с работой врача, Чехов всегда ухитрялся очень много читать, причем не проглатывать книги, а именно штудировать, как советовал он Николаю.
«Художник, — говорил он, — должен всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить».
«Я подметил в Чехове одну характерную черту, — вспоминал В. Тихонов, — это то, что он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду… Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что-нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой, — Чехов всегда думал. Благодаря этому он иногда сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется, совсем неподходящий вопрос и казался иногда рассеянным. Благодаря этому он среди разговора присаживался к столу и что-то писал на своих листках почтовой бумаги; благодаря этому, стоя лицом к лицу с вами, он вдруг начинал смотреть куда-то в глубь самого себя».
«Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя, — говорил Чехов Щеглову. — Настолько, понимаете, выработать, чтобы это вошло прямо в привычку, сделалось как бы второй натурой».