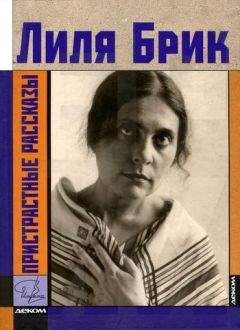Он был пунцов от раздражения, он грозил Маяковскому коротеньким пухлым пальцем, всей фигуркой выражая негодование. А тут еще секретарша сбоку старалась выгородить себя, вопя, что Маяковский поднял ее за локти и отставил в сторону от защищаемой ею двери начальства.
Начальство свирепело все больше. Что-то вроде «позвольте вам выйти вон», с указующим перстом на выходные двери.
Маяковский вдруг внезапно положил трость на письменный стол, снял шапку с головы, положил плакаты на кресло и, опершись ладонями о стол, начал с тихой, почти интимной, воркующей интонацией:
– Если вы, дорогой товарищ…
Громче и скандируя:
– …позволите себе еще раз…
Еще громче и раздельнее:
– …помахивать на меня вашими пальчиками!
Убедительно и почти сочувственно:
– То я!
оборву вам эти пальчики!!
вложу в порт-букет!!!
Со страшной силой убедительности и переходя на наивысшие ноты:
– и пошлю их на дом вашей жене!!!
Эхо раскатов голоса Маяковского заставило продребезжать стекла. Начальство по мере повышения голосовой силы, как бы пригибающей к земле, начало опускаться в свое кресло, ошарашенное и самим гулом голоса, и смыслом сказанного.
Результат был неожиданным.
– Маяковский, да чего вы волнуетесь! Ну что там у вас? Давайте разберемся!
Плакаты были просмотрены и утверждены за десять минут.
Анатолий Борисович Мариенгоф:
Госиздат.
Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлы, расставив ноги:
– Товарищ главбух, я в четвертый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу.
– В пятницу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу прошу пожаловать.
– Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых пятниц не будет. Ясно?
– Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки.
– Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз…
Главный бухгалтер перебивает:
– На нет и суда нет, товарищ Маяковский!
Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на желтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шелковой рубашки.
Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на темные, глядящие исподлобья глаза, похожие на чугунные гири в бакалейной лавке. «Вероятно, будет меня бить», – решает главный бухгалтер. Ах, кто из нас, грешных, не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человека помучить.
Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав.
«Ну вот, сейчас и влепит по морде», – думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми безволосыми руками.
– Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом кабинете, буду танцевать чечетку, – с мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. – Буду ее танцевать до тех пор, пока вы сами, лично не принесете мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу.
Главный бухгалтер облегченно вздыхает: «Не бьет, слава богу».
И, опустив безволосые руки на аккуратные кипы бумаг, произносит голосом говорящей рыбы:
– Милости прошу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу от трех до пяти.
Маяковский выходит на середину кабинета, подтягивает ремень на брюках и: тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук.
Машинистка, стриженая, как новобранец (вероятно, после сыпного тифа), шмыгнув носом, выскакивает за дверь.
Тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук…
Весь Госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский.
Паркетный пол трясется под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на желтых тонконогих столиках, звеня, прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запыленные стекла.
Маяковский отбивает чечетку сурово-трагически. Челюсти сжаты. Глядит в потолок.
Тук-тук-тук… тук-тук-тук…
Никому не смешно. Даже пуговоносому мальчугану-курьеру, который, вразлад со всем Госиздатом, имеет приятное обыкновение улыбнуться, говоря: «Добрый день!» или «Всего хорошего!».
Через несколько минут главный бухгалтер принес Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги.
Лев Абрамович Кассиль:
Как-то раз он остановил на улице свободное такси, чтобы ехать домой. Он открыл уже дверцу и характерным жестом, обеими руками берясь за машину, наклонившись, большой, стал как бы нахлобучивать всю машину на себя, надевая через голову, – так нам всегда казалось, когда он влезал в маленький автомобиль…
Вдруг двое молодых людей развязно и категорически потребовали предоставить машину им. Узнав Маяковского, они влезли в лимузин, стали скандалить и для большей убедительности принялись размахивать какими-то «ответственными удостоверениями». Это и взорвало Маяковского, у которого к мандатам никогда почтения не было.
– Я бы охотно уступил им машину, – рассказывал он потом, – черт с ними! Как вдруг они бумажкой этой начали бряцать… Мандаты там какие-то… Понимаете? Раздобыл какую-то бумажку с печатью и уже опьянен ее властью. Подумаешь, ордер на мир! Особый бюрократический алкоголь. От бумажки пьян. Ему уже бумажкой человека убить хочется. Ах, до чего ж я ненавижу эту дрянь!.. Я их пустил в машину. «Садитесь, – говорю, – пожалуйста». Сели. Нагло сели. Я и отвез их в милицию.
Наталья Александровна Брюханенко:
Громко Маяковский говорил только на эстраде. Дома же говорил почти тихо. Никогда громко не смеялся. Чаще всего вместо смеха была улыбка. А когда на выступлениях из публики его просили сказать что-нибудь погромче – он объяснял:
– Я громче не буду, могу всех сдунуть.
Лев Абрамович Кассиль:
Но он сердится, когда дешево и умиленно восторгаются его необыкновенностью, масштабами его фигуры. Как-то он сосет конфету в перерыве после выступления. И какая-то девица – губы бантиком, – подлетев к нему, щебечет:
– Смотрите, как смешно: Маяковский, такой большой, и вдруг сосет такую маленькую конфеточку!
– А вы что же, хотите, чтоб я, по-вашему, тарелки глотал, столы жевал?!
Лев Вениаминович Никулин:
Нельзя передать легкость и своеобразие его диалога, неожиданность интонаций, странного чередования угрюмой сосредоточенности взгляда и жизнерадостности его усмешки.