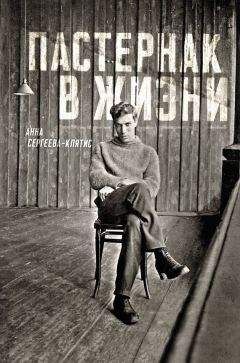Это событие запечатлено многими мемуаристами той эпохи, но наиболее точно, выразительно и остроумно о нем написал Ф. Ф. Вигель, убежденный карамзинист: «Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний „Беседы“ отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние торжественные собрания „Беседы“. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, но все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная, была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту»[179].
Несколько карамзинистов, оказавшихся к этому времени в Петербурге, посетили первые заседания вновь образовавшегося общества. Впечатления их были в целом однородными: косность мыслей идеолога «Беседы» Шишкова на фоне бездарных произведений его сотоварищей. «Я был слушателем первой Беседы, — сообщает Жуковскому А. И. Тургенев. — Шишков доказывал бедность и плохое состояние нашей словесности и доказал — своею речью…»[180]«…Шишков читал без остановки, — пишет Вяземскому Д. П. Северин, — в продолжение битых двух часов речь о достоинстве русского слова, где ритор сей, забывая правила логики и здравого рассудка, беспрестанно смешивает дар слова вообще с наречием русским: это ужасно!»[181] В другом письме Северин отчитывается о поэтических чтениях в «Беседе»: «Там слушал я: речь престарелого Пиндара нашего о Лирической поэзии, Гимн кротости и оду к Истине, его же; не хочу говорить о них. Потом Перевод в прозе 1-й Сатиры Горация Апостолом-Муравьевым, с жизнию Горация; обе пиесы понравились публике, особливо штатс- и простым дамам. Апостол хорошо проповедует, т. е. читает. Потом, чтобы такое: Эпистолу ф. Хвостова о пользе критик, в которой между многими достопримечательными стихами найдешь ты и этот: С богами говорить не должно бестолково. <…> В заключение пет Дифирамб: „Сретение Орфеева Солнца“, Державина, довольно, впрочем, дурное, кроме 2-й строфы, которая напоминает хорошее старика время»[182]. Насколько интересовали москвичей вести, доходящие из Петербурга весной 1811 года, можно судить по той скорости, которой они обмениваются информацией. 27 апреля Северин посылает свой отчет о новом заседании «Беседы» Вяземскому, а уже 6 мая Батюшков пристрастно расспрашивает Гнедича: «У вас было еще заседание в Беседе? Бога ради, отпиши мне об этом. Правда ли, что Хвостов написал и проговорил: „С богами говорить не должно бестолково“. А с людьми как? — Муравьев-Апостол читал „Жизнь Горация“? — Я бьюсь об заклад, что это было хорошо. Державин… но об этом ни слова!»[183]
Сколько бы ни подвергали осмеянию активные и бойкие на перо карамзинисты членов «Беседы» с ее громоздкой и бессмысленной структурой, тяжелыми многочасовыми собраниями и отсутствием вкуса и дарования, образование этого литературного сообщества заставило их всерьез сплотить свои ряды. «Я читал объявление о Беседе в газетах, читал ее регламент и теперь еще болен от этого чтения. Боже, что за люди! Какое время! О Велхи! О варяги-Славяне! О скоты! — Ни писать, ни мыслить не умеют!!! — возмущается Батюшков и тут же добавляет: —…Я вот чего страшусь: женщины, у которых вкус нежнее и вернее, соскучатся прежде, а после них тотчас и мужчины. Тогда это ремесло будет смешно, предосудительно»[184]. Очевидно, опасение, что ремесло литератора станет предосудительным с точки зрения хорошего вкуса, тревожило не одного Батюшкова, потому что на новые выпады Шишкова карамзинисты стали отвечать, и очень колко.
В. Л. Пушкин вставил соответствующий — лингвистический — фрагмент в свою фривольную поэму «Опасный сосед». Персонажи поэмы отправлялись развлекаться в бордель на паре лошадей. Описание этой поездки вскоре стало повторять с восхищением все московское общество:
Кузнецкий мост, и вал, Арбат и Поварская
Дивились двоице, на бег ее взирая.
Позволь, варягоросс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец!!
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, парой двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Ну, к черту вкус и ум! пишите в добрый час!
«Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение! И это написала вялая муза Василия Львовича»[185], — восхищался Батюшков, отсылая «Опасного соседа» Гнедичу.
Насмешки над варягороссами чередовались с обстоятельными и насыщенными критическими разборами, в которых противников разбивали наголову. Один из таких разборов принадлежал молодому автору, талантливому литератору, подающему надежды государственному деятелю, принадлежащему к кругу И. И. Дмитриева, — Д. В. Дашкову, одному из самых убежденных противников Шишкова. «…Посмотрим со вниманием, — писал он в своей статье „О легчайшем способе возражать на критики“, — отчего у нас многие пишут так дурно после образцовых сочинений Ломоносова, Хераскова, Богдановича, Державина, Дмитриева, Карамзина и других хороших авторов наших? Отчего многие молодые люди, впрочем, не без дарований, представляют нам в стихах своих живое подражание тяжелому и грубому слогу Тредиаковского? Оттого, что они с младенчества приучились полагать истинную поэзию, истинное достоинство слога в нескладном сборище славенских выражений, неупотребительных в русском языке и несвойственных оному; привыкли думать, что ничему не должны учиться, кроме славенороссийского языка, и потому гнушаются чтением хороших писателей, как своих, так и чужестранных»[186]. «Кто писал рецензию на Шишкова? — пристрастно выспрашивал у Гнедича Батюшков, еще не знакомый лично с Дашковым. — А она истинно хороша!»[187]