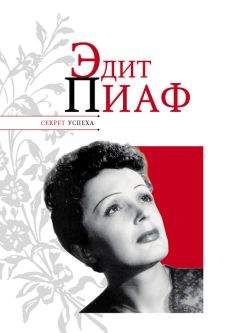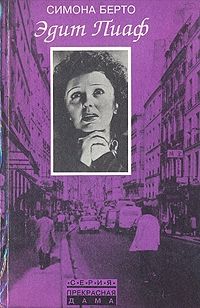Когда Реймон сказал Эдит, что она не умеет одеваться, она подняла крик.
— Не вмешивайся в то, в чем не разбираешься. Тряпки — не твое дело.
— На сцене ты очень хороша в черном платье.
— Это главное. На улице я ношу что хочу.
— На улице ты должна сохранять тот же стиль, что и на сцене. Это составная часть твоего образа, твоей индивидуальности.
Уметь вести себя за столом, научиться удерживаться от грубых слов, говорить приятные вещи… Мы от этого еще не могли прийти в себя, но когда услышали об «индивидуальности»… У нас глаза на лоб полезли. Однако Эдит все просекла мгновенно. Ведь это непосредственно касалось ее профессии.
Чтобы докопаться до этой пресловутой индивидуальности, Реймон заставлял Эдит часами рассказывать о себе. Болтовню она обожала. Я развлекалась от души. Она всегда с первой минуты догадывалась, что нужно говорить мужчине, чтобы ему понравиться. Интуитивно она говорила то, что ему хотелось услышать. Она не ошибалась и не делала никаких усилий. Истиной для нее было то, что ее увлекало в тот момент, когда приходило в голову. А поскольку цель была его соблазнить, она причесывала свою жизнь под его гребенку. Он заглатывал все.
Она мне говорила:
— Момона, я не лгу. Я себе украшаю жизнь.
Чтобы нравиться Реймону, Эдит ударилась в романтику: бедная молоденькая девушка с улицы, из предместья, но такая привлекательная… Входила в детали: мать — неудавшаяся певица, отец — акробат, сводная сестричка, которую она опекает. Случайные встречи, тоскливые вечера… Она ничего не упустила!
Реймону было не важно, правда это или нет. Она помогала ему создавать, отшлифовывать свой персонаж. Слушая ее, Реймон понял, что Эдит не может петь чужой репертуар, что у нее должен быть свой, по ее меркам, «ручной работы», сшитый на заказ. И он принялся за дело — стал писать для нее песни.
Он доставал кисет, опустив голову, медленно, машинальными движениями набивал трубку, большим пальцем, немного расплющенным к концу, приминал табак, потом поднимал голову, делал глубокий вдох, раскуривал трубку и принимался «рассказывать» нам свою песню.
Огрызком карандаша он делал пометки в блокноте. Ему не всегда была нужна законченная история вроде той, что произошла в поезде и из которой он сделал песню «Париж — Средиземноморье». Достаточно было лишь небольшого толчка. Однажды я ему сказала:
— Понимаешь, ведь Эдит жила на улице Пигаль и…
— Помолчи-ка минутку…
И он начал писать, у него пошло. На следующее утро он нам прочитал «Она жила на улице Пигаль»:
Она была вся черная от грехов,
С бедным бледным личиком.
Однако в глубине ее глаз
Было что-то чудесное,
Что привносило голубизну
В грязное небо Пигали.
Он создал в песнях «стиль Эдит».
Как было хорошо, когда мы втроем обсуждали песню! Как я это любила! К нам часто приходила Мадлена. Она приносила кофе. За работой мы были одна семья, локоть к локтю, дышали рядом.
Осложнялось все в другие моменты, когда Эдит хотела оставить Реймона у себя на ночь. Однако ссоры начались позднее. В тот период, о котором я рассказываю, была в разгаре работа по «созданию» Эдит, и все мы помогали Реймону как могли.
После того как бывали написаны слова, Маргерит Монно писала музыку. Реймон Ассо сделал гениальный ход, когда к работе привлек Маргерит Монно.
Увидев впервые вместе Реймона и Маргерит, мы с Эдит не поняли, что у них может быть общего. Ассо был человеком нервным и жестким. У Маргерит был нежный овал лица, светлые волосы, полусонный взгляд, на губах след улыбки, невысказанная нежность. Он взрывался по всякому поводу, она всегда витала в облаках.
Реймон сказал Эдит:
— Я тебя познакомлю с Маргерит Монно.
Это она написала музыку «Чужестранца».
Блестящая рекомендация! Мы не забыли того, что было связано с этой песней.
Я не помню, в какое время впервые пришла Маргерит. Она всегда приходила либо раньше, либо позже условленного часа… Мы все трое были в нашей с Эдит комнате. Мы ждали ее. Войдя, она сказала:
— Здравствуйте, ребятки. А у вас тут очень мило.
Реймон рассмеялся.
— Ты хоть заметила, что это отель?
— Ах вот как? Тем не менее здесь уютно…
Чтобы сказать такое, нужно было действительно ничего не видеть вокруг. Наш отель не был дворцом, как «Пикадилли»,— самый средний, если не сказать захудалый. Ковры вытерты до основы, на них не оставалось и следов шерсти. Но для Маргерит это не имело значения. Она никогда ничего не замечала.
Эдит тотчас же ею увлеклась. Она как бы увидела ее всю насквозь и в ее руку с полным доверием вложила свою.
— Я уверена, что вы потрясающая женщина! Какой у вас талант!
«О!» — сказала Маргерит тоном дамы, только что заметившей, что ее насилуют.
Эдит сразу же стала называть ее «Гит» и полюбила на всю жизнь.
Когда Эдит впервые пришла к Маргерит, произошло такое, что мы обе чуть не заплакали. Маргерит сказала ей:
— Сядь за мой рояль. Положи руки на клавиши.
Эдит положила руки на клавиши и закрыла глаза.
— Гит, я мечтала об этом, когда мне было пять лет, я была слепой и могла только слушать.
— Тогда слушай внимательно.
У Маргерит были прекрасные руки виртуоза. Она положила их на руки Эдит.
— Играй, играй со мной.
Лицо Эдит сияло. На нем застыл смех. Так смеются дети, когда они переполнены счастьем.
Так Эдит научилась играть на рояле. Она это очень любила. Она говорила, что лучшее понимает музыку, когда разбирает ее сама.
Реймон и Маргерит были так же несовместимы, как солдатский сапог и туфелька Золушки. Но когда они работали над песней, все менялось. Это был брак по любви. Третьей в этом союзе стала Эдит.
Вот как это происходило. Эдит читала текст песни так, как предполагала его петь; Маргерит слушала в зачарованном полусне: Реймон ждал… Пока музыка не была готова, он не был уверен в сочиненном тексте. Когда чтение заканчивалось, Маргерит восклицала: «Ах, ребятки…» Это вовсе не означало, что все прекрасно, она слушала еще и еще. Потом говорила: «Мне кажется, теперь я уловила».
И Маргерит начинала играть. Она уходила в свой мир, да, собственно, она никогда из него и не выходила.
Эдит говорила о ней: «Гит всегда в облаках…»
Эдит любила ее всем сердцем. Они не расставались до самой смерти Маргерит, тихо скончавшейся в 1961 году. Она не выглядела больной. Никто о ее болезни не подозревал, она никогда не говорила о себе. Просто у нее стал более потусторонний вид. чем обычно. Умерла она так же, как жила: бесшумно. Выскользнула из жизни и ушла в смерть так же легко, как прошла свой путь.